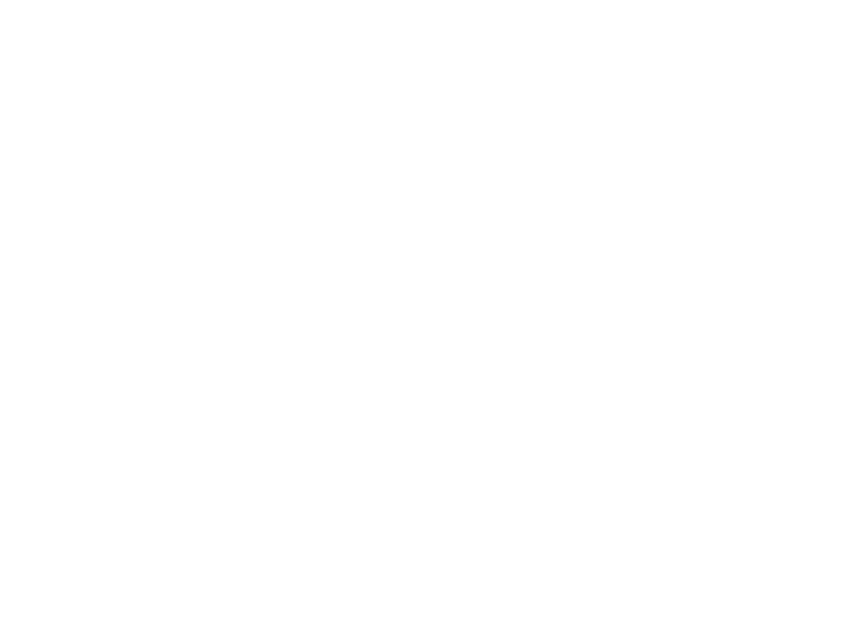
Обзор книги Карен Мароды
"Уязвимость аналитика. Влияние на теорию и практику"
Автор: Ирина Золотарева
2022
2022
"Мы заново переживаем наше прошлое, когда лечим наших пациентов, получая как удовольствие, так и боль, возвращаясь к эмоциональной сфере, которая может быть до боли знакомой. Кроме того, мы часто отдаем предпочтение теоретическим подходам и вмешательствам, которые иногда слишком легко превращаются либо в повторение нашего собственного прошлого, либо в защиту от переживания этого повторения."
Наверное ни в одном походе я не встречала такого внимания к фигуре терапевта, к его личности, как в реляционном. Он здесь становится полноправным участником процесса, который оказывает влияние на пациента, на терапию не только своими интервенциями, но и всей своей личностью. В прежние времена это влияние полагалось устранять, сейчас оно, конечно, признается, но предпринимаются попытки всячески его ограничивать. А в этой книге Марода исследует как именно ранняя история аналитиков, их травмы, которые создают неповторимый узор личной уязвимости, влияют на наш выбор терапевтических подходов и техник. Уязвимость аналитика, это то, что создает терапевтическую предпосылку, как я считаю. Как её использовать, как на неё опираться? Думаю, что в этой книге много чего интересного об этом найдётся. Посмотрите только на содержание:
ЧАСТЬ I
Аналитик как личность
1 Ранний опыт аналитика
2 Управление потребностями аналитика
3 Нарциссическая уязвимость аналитика
ЧАСТЬ II
Аналитик как клиницист
4 Конфликт и негативный контрперенос
5 Деконструкция разыгрывания
6 Мифы об эмпатии и зеркальных нейронах
7 Терапевтическое действие
Карен Марода "Уязвимость аналитика. Влияние на теорию и практику"
Наверное ни в одном походе я не встречала такого внимания к фигуре терапевта, к его личности, как в реляционном. Он здесь становится полноправным участником процесса, который оказывает влияние на пациента, на терапию не только своими интервенциями, но и всей своей личностью. В прежние времена это влияние полагалось устранять, сейчас оно, конечно, признается, но предпринимаются попытки всячески его ограничивать. А в этой книге Марода исследует как именно ранняя история аналитиков, их травмы, которые создают неповторимый узор личной уязвимости, влияют на наш выбор терапевтических подходов и техник. Уязвимость аналитика, это то, что создает терапевтическую предпосылку, как я считаю. Как её использовать, как на неё опираться? Думаю, что в этой книге много чего интересного об этом найдётся. Посмотрите только на содержание:
ЧАСТЬ I
Аналитик как личность
1 Ранний опыт аналитика
2 Управление потребностями аналитика
3 Нарциссическая уязвимость аналитика
ЧАСТЬ II
Аналитик как клиницист
4 Конфликт и негативный контрперенос
5 Деконструкция разыгрывания
6 Мифы об эмпатии и зеркальных нейронах
7 Терапевтическое действие
Ранний опыт аналитика
Я начну с того, что я думаю по поводу этой книги. А я думаю, что в ней происходит дальнейшее развитие реляционных идей, ни больше, ни меньше.
Общая логика развития психоанализа от его классических моделей, до реляционных - это все большее признание того, что аналитик участвует в процессе не как сторонний наблюдатель и объективный исследователь пациента, но как субъект, неизбежно включённый в процесс, на пациента влияющий, неизбежно создающий с ним общее поле. Эта логика прослеживается в истории отношения к контрпереносу - от полного запрета аналитику что-то чувствовать к пациенту, до признания неустранимости этих чувств. Следующим шагом было признание неизбежности того, что контрпереносные чувства не могут стопроцентно контролироваться аналитиком и даже того, что аналитик не может по своей воле не втягиваться в бессознательные разыгрывания между ним и пациентом.
Коротко говоря, аналитик все больше признавался человеком, со всеми вытекающими. И курс на сдерживание и подавление в себе этого человеческого постепенно менялся на то, чтобы это все принимать, осознавать и встраивать в нашу теорию и практику.
Марода пишет: «Что объединяет интерперсональную, реляционную, интерсубьективную теориии, полевые теории и теорию ментализации, так это признание психоанализа и психотерапии не просто как отношений, но таких, которые обязательно включают в себя последовательное взаимное эмоциональное взаимодействие. Этот акцент на необходимости эмоционального участия, пожалуй, является наибольшим изменением не только в аналитическом лечении, но и во всех формах терапии.»
Она идёт ещё дальше и предлагает признать ещё один неоспоримый факт: что у аналитика есть потребность получать определенное удовлетворение от пациента. Корни этой потребности идут из ранней истории аналитиков. Марода выдвигает предположение, что у многих (или большинства?) аналитиков матери были депрессивны, и детям приходилось брать на себя роль родителя для своей мамы. Она делится своей собственной историей, о том, что она вынуждена была заботиться о душевном состоянии своей матери. Будучи вынужденными слишком рано принять на себя заботу о другом, такие дети учатся всегда ставить потребности другого на первое место. И профессия терапевта даёт им такую возможность.
Это позиция имеет свои последствия. Многие терапевты стремятся быть хорошими родителями для своих пациентов, не осознавая обиду и гнев за своё отречение от себя.
Очень интересный поворот делает мысль автора, когда она говорит о том, где этот подавленный негатив проявляется. Дальше цитата:
«Начиная с ранних наставлений Фрейда действовать как хирург и заканчивая текущими спорами о любом систематическом использовании самораскрытия, постоянно возникает тема потенциального вреда. С моей точки зрения, этот страх причинения вреда превышает ожидаемую осторожность, порожденную законной профессиональной заботой о том, чтобы поступать правильно по отношению к пациенту.
Поскольку большинство аналитиков — очень порядочные, трудолюбивые, преданные своему делу профессионалы, почему такой страх может быть настолько всепроникающим? Я думаю, аргумент Серлза о нашей общей вине имеет большое значение для понимания этого. Все мы знаем, что в наших отношениях с пациентами мы удовлетворяем некоторые личные потребности, даже если они на каком-то уровне подавляются. Не вызывает ли скрытое знание об этой личной выгоде столько чувства вины и стыда, что нам нужно переоценивать свою роль не только как «достаточно хороших» опекунов, но и как самоотверженных гуманитариев (Orange, 2016)? Более того, в какой степени этот страх причинения вреда пациентам является реактивным образованием в ответ на подавленный гнев, который возникает из-за нашей внутренней установки ставить других на первое место? Хотя из литературы совершенно очевидно, что наш страх причинения вреда существенен, мало кто обсуждает, почему это так.»
И ещё:
«По этой теме Prodgers (1991) цитирует Storr (1979):
Неподтвержденные данные указывают на высокую распространенность депрессивных матерей среди стажеров-психотерапевтов, которые приобрели чувствительность, оценивая настроение матери. Они также учились ставить свои собственные чувства на второе место по отношению к её чувствам — еще одно необходимое условие для терапевта. Предъявление требований часто приводит к чувству вины и страху причинить вред другим в отношениях. Ставить других на первое место — безопасный вариант, но это неизбежно означает подавление агрессии.» (стр. 146–147)
Лично мне все очень отозвалось и с моей личной историей и с выбором профессии согласуется. И ещё я ощущаю большую личную выгоду от реляционного психоанализа, потому что именно там почувствовала возможность как-то разместить в кабинете что-то свое человеческое, которое было непонятно куда девать, да ещё и делать это с пользой для терапии. Это про мое личное удовлетворение от реляционного психоанализа.
Напомню, что Карен Марода фокусируется в своей книге на том, что редко обсуждается и рефлексируется аналитиками и терапевтами: какие личные потребности привели нас в профессию? Какие свои потребности и как удовлетворяет аналитик в процессе терапии?
То есть по сути, она переходит из ограничивающего подхода к рефлексирующему. Ограничивающий подход основан на том, что аналитику что-то запрещается: что-то чувствовать к пациенту, выражать ему эти чувства, участвовать в бессознательных разыгрываниях, по крайней мере стремиться к этому. Запрет не устраняет феномен сам по себе, но переводит его в разряд нелегальных, уводит в тень, создаёт зоны стыда для аналитиков.
Мы привыкли также к тому, что в терапии работаем только для пользы клиента. Строго запрещёно аналитику удовлетворять свои потребности в терапии. Карен Марода считает, что больше смысла не в запретах, а в осмыслении и осознании того, что мы не в состоянии искоренить. Поэтому она предлагает исследовать удовлетворение аналитика в его работе. Да не закидают меня сейчас камнями все этические комитеты! Речь здесь не об этике, а о неустранимых феноменах, которые разумнее не запрещать (а значит закрывать на них глаза), а иметь ввиду.
Послушаем как об этом говорит Марода:
«Никакие отношения, какими бы асимметричными они ни были, не могут выжить без некоторого приспособления к потребностям других. Вопрос, который я рассматриваю в этой книге, заключается в том, как мы можем инкорпорировать признание и включение наших потребностей в модель, которая сохраняет основной акцент на оказании помощи пациенту.»
«Практически нет места для представления о каком-то уровне личной выгоды для терапевта как о нормальном, здоровом и неизбежном, даже несмотря на то, что все мы испытываем это на регулярной основе. Мало кто признает и то, что мы также будем регулярно испытывать скуку, незаинтересованность, отчуждение, злорадство, гнев, отвращение и стыд.»
Дальше Марода критически подходит к известной формуле Биона, о том, что аналитику следует настраиваться на пациента «без памяти и желания». Интересно было бы услышать, что думают об этом последователи Биона. А пока послушайте Карен:
«Еще более важным является признание того, что мы не лишены памяти или желания. Какой бы поэтичной и привлекательной ни была знаменитая фраза Биона, я думаю, что это нереалистичный подход к лечению. Я ценю, что его рецепт был направлен на поощрение восприимчивости, а не на отрицание наших личных предубеждений и потребностей. Тем не менее, его слова часто воспринимаются более буквально, отрицая значительные обстоятельства, которые препятствуют реальному существованию такого положения дел.
Даже будучи вдохновляющей концепцией, это приносит больше вреда, чем пользы, поскольку направляет мышление аналитика в неправильную сторону. Вместо того чтобы стремиться не иметь никаких потребностей или желаний, нам было бы полезно ожидать их наличия и работать над тем, чтобы осознавать эти потребности.»
И дальше:
«Стремление преодолеть примитивные чувства обиды, страха, отчаяния, безнадежности и ярости приводит только к необходимости отрицать эти чувства или пытаться подавить их, когда они возникают.»
Закончить я хочу словами Сирлза, которые цитирует Марода и этим добавляет ещё одно звено в цепочку недостижимых целей аналитика (напомню их - не испытывать чувств к пациенту, можно испытывать, но нельзя проявлять, контролировать свои чувства и не допускать их отыгрывание в отношениях с пациентом, не удовлетворять свои потребности в этих отношениях)
И вот ещё звено:
«Я предполагаю, что искреннее принятие пациента - еще одна недостижимая цель.»
Общая логика развития психоанализа от его классических моделей, до реляционных - это все большее признание того, что аналитик участвует в процессе не как сторонний наблюдатель и объективный исследователь пациента, но как субъект, неизбежно включённый в процесс, на пациента влияющий, неизбежно создающий с ним общее поле. Эта логика прослеживается в истории отношения к контрпереносу - от полного запрета аналитику что-то чувствовать к пациенту, до признания неустранимости этих чувств. Следующим шагом было признание неизбежности того, что контрпереносные чувства не могут стопроцентно контролироваться аналитиком и даже того, что аналитик не может по своей воле не втягиваться в бессознательные разыгрывания между ним и пациентом.
Коротко говоря, аналитик все больше признавался человеком, со всеми вытекающими. И курс на сдерживание и подавление в себе этого человеческого постепенно менялся на то, чтобы это все принимать, осознавать и встраивать в нашу теорию и практику.
Марода пишет: «Что объединяет интерперсональную, реляционную, интерсубьективную теориии, полевые теории и теорию ментализации, так это признание психоанализа и психотерапии не просто как отношений, но таких, которые обязательно включают в себя последовательное взаимное эмоциональное взаимодействие. Этот акцент на необходимости эмоционального участия, пожалуй, является наибольшим изменением не только в аналитическом лечении, но и во всех формах терапии.»
Она идёт ещё дальше и предлагает признать ещё один неоспоримый факт: что у аналитика есть потребность получать определенное удовлетворение от пациента. Корни этой потребности идут из ранней истории аналитиков. Марода выдвигает предположение, что у многих (или большинства?) аналитиков матери были депрессивны, и детям приходилось брать на себя роль родителя для своей мамы. Она делится своей собственной историей, о том, что она вынуждена была заботиться о душевном состоянии своей матери. Будучи вынужденными слишком рано принять на себя заботу о другом, такие дети учатся всегда ставить потребности другого на первое место. И профессия терапевта даёт им такую возможность.
Это позиция имеет свои последствия. Многие терапевты стремятся быть хорошими родителями для своих пациентов, не осознавая обиду и гнев за своё отречение от себя.
Очень интересный поворот делает мысль автора, когда она говорит о том, где этот подавленный негатив проявляется. Дальше цитата:
«Начиная с ранних наставлений Фрейда действовать как хирург и заканчивая текущими спорами о любом систематическом использовании самораскрытия, постоянно возникает тема потенциального вреда. С моей точки зрения, этот страх причинения вреда превышает ожидаемую осторожность, порожденную законной профессиональной заботой о том, чтобы поступать правильно по отношению к пациенту.
Поскольку большинство аналитиков — очень порядочные, трудолюбивые, преданные своему делу профессионалы, почему такой страх может быть настолько всепроникающим? Я думаю, аргумент Серлза о нашей общей вине имеет большое значение для понимания этого. Все мы знаем, что в наших отношениях с пациентами мы удовлетворяем некоторые личные потребности, даже если они на каком-то уровне подавляются. Не вызывает ли скрытое знание об этой личной выгоде столько чувства вины и стыда, что нам нужно переоценивать свою роль не только как «достаточно хороших» опекунов, но и как самоотверженных гуманитариев (Orange, 2016)? Более того, в какой степени этот страх причинения вреда пациентам является реактивным образованием в ответ на подавленный гнев, который возникает из-за нашей внутренней установки ставить других на первое место? Хотя из литературы совершенно очевидно, что наш страх причинения вреда существенен, мало кто обсуждает, почему это так.»
И ещё:
«По этой теме Prodgers (1991) цитирует Storr (1979):
Неподтвержденные данные указывают на высокую распространенность депрессивных матерей среди стажеров-психотерапевтов, которые приобрели чувствительность, оценивая настроение матери. Они также учились ставить свои собственные чувства на второе место по отношению к её чувствам — еще одно необходимое условие для терапевта. Предъявление требований часто приводит к чувству вины и страху причинить вред другим в отношениях. Ставить других на первое место — безопасный вариант, но это неизбежно означает подавление агрессии.» (стр. 146–147)
Лично мне все очень отозвалось и с моей личной историей и с выбором профессии согласуется. И ещё я ощущаю большую личную выгоду от реляционного психоанализа, потому что именно там почувствовала возможность как-то разместить в кабинете что-то свое человеческое, которое было непонятно куда девать, да ещё и делать это с пользой для терапии. Это про мое личное удовлетворение от реляционного психоанализа.
Напомню, что Карен Марода фокусируется в своей книге на том, что редко обсуждается и рефлексируется аналитиками и терапевтами: какие личные потребности привели нас в профессию? Какие свои потребности и как удовлетворяет аналитик в процессе терапии?
То есть по сути, она переходит из ограничивающего подхода к рефлексирующему. Ограничивающий подход основан на том, что аналитику что-то запрещается: что-то чувствовать к пациенту, выражать ему эти чувства, участвовать в бессознательных разыгрываниях, по крайней мере стремиться к этому. Запрет не устраняет феномен сам по себе, но переводит его в разряд нелегальных, уводит в тень, создаёт зоны стыда для аналитиков.
Мы привыкли также к тому, что в терапии работаем только для пользы клиента. Строго запрещёно аналитику удовлетворять свои потребности в терапии. Карен Марода считает, что больше смысла не в запретах, а в осмыслении и осознании того, что мы не в состоянии искоренить. Поэтому она предлагает исследовать удовлетворение аналитика в его работе. Да не закидают меня сейчас камнями все этические комитеты! Речь здесь не об этике, а о неустранимых феноменах, которые разумнее не запрещать (а значит закрывать на них глаза), а иметь ввиду.
Послушаем как об этом говорит Марода:
«Никакие отношения, какими бы асимметричными они ни были, не могут выжить без некоторого приспособления к потребностям других. Вопрос, который я рассматриваю в этой книге, заключается в том, как мы можем инкорпорировать признание и включение наших потребностей в модель, которая сохраняет основной акцент на оказании помощи пациенту.»
«Практически нет места для представления о каком-то уровне личной выгоды для терапевта как о нормальном, здоровом и неизбежном, даже несмотря на то, что все мы испытываем это на регулярной основе. Мало кто признает и то, что мы также будем регулярно испытывать скуку, незаинтересованность, отчуждение, злорадство, гнев, отвращение и стыд.»
Дальше Марода критически подходит к известной формуле Биона, о том, что аналитику следует настраиваться на пациента «без памяти и желания». Интересно было бы услышать, что думают об этом последователи Биона. А пока послушайте Карен:
«Еще более важным является признание того, что мы не лишены памяти или желания. Какой бы поэтичной и привлекательной ни была знаменитая фраза Биона, я думаю, что это нереалистичный подход к лечению. Я ценю, что его рецепт был направлен на поощрение восприимчивости, а не на отрицание наших личных предубеждений и потребностей. Тем не менее, его слова часто воспринимаются более буквально, отрицая значительные обстоятельства, которые препятствуют реальному существованию такого положения дел.
Даже будучи вдохновляющей концепцией, это приносит больше вреда, чем пользы, поскольку направляет мышление аналитика в неправильную сторону. Вместо того чтобы стремиться не иметь никаких потребностей или желаний, нам было бы полезно ожидать их наличия и работать над тем, чтобы осознавать эти потребности.»
И дальше:
«Стремление преодолеть примитивные чувства обиды, страха, отчаяния, безнадежности и ярости приводит только к необходимости отрицать эти чувства или пытаться подавить их, когда они возникают.»
Закончить я хочу словами Сирлза, которые цитирует Марода и этим добавляет ещё одно звено в цепочку недостижимых целей аналитика (напомню их - не испытывать чувств к пациенту, можно испытывать, но нельзя проявлять, контролировать свои чувства и не допускать их отыгрывание в отношениях с пациентом, не удовлетворять свои потребности в этих отношениях)
И вот ещё звено:
«Я предполагаю, что искреннее принятие пациента - еще одна недостижимая цель.»
"Незнание" и пассивность аналитика
Марода пишет что если раньше аналитик представлялся как «арбитр реальности», то сейчас акцент сместился на аналитика, как незнающего. Она снова подмечает тут уклон в дихотомию, когда отрицание одного полюса приводит к слишком сильному крену в другой:
«Это не означает, что аналитик не вовлечен и не прилагает усилий, чтобы понять пациента и процесс; скорее, это утверждение отражает переход от знания и авторитета к возвышенной позиции “незнания”. Возвышение “незнания” проистекает из убеждения, что у нас очень ограниченная способность осознавать либо то, что мы чувствуем, либо то, что чувствует пациент. Моя позиция заключается в том, что то, что начиналось как похвальное неприятие аналитика как всезнающего и привело к более скромному осознанию наших ограничений, теперь стало настолько всеобъемлющим, что отбивает у аналитиков охоту претендовать на какие-либо реальные знания или навыки.»
С позицией «незнания» перекликается характерная, как считает Марода, пассивность аналитиков. И она снова ищет корни этой пассивности в раннем развитии специалистов, включая в анализ и свою личную историю.
«Это не означает, что аналитик не вовлечен и не прилагает усилий, чтобы понять пациента и процесс; скорее, это утверждение отражает переход от знания и авторитета к возвышенной позиции “незнания”. Возвышение “незнания” проистекает из убеждения, что у нас очень ограниченная способность осознавать либо то, что мы чувствуем, либо то, что чувствует пациент. Моя позиция заключается в том, что то, что начиналось как похвальное неприятие аналитика как всезнающего и привело к более скромному осознанию наших ограничений, теперь стало настолько всеобъемлющим, что отбивает у аналитиков охоту претендовать на какие-либо реальные знания или навыки.»
С позицией «незнания» перекликается характерная, как считает Марода, пассивность аналитиков. И она снова ищет корни этой пассивности в раннем развитии специалистов, включая в анализ и свою личную историю.
Жертвенность и удовлетворение аналитика
Во второй главе Марода рассматривает позицию аналитика, обозначенную полюсами «жертвенность-удовлетворение». Она пишет: «все близкие человеческие отношения обязательно предполагают высокую степень как жертвенности, так и удовлетворения.»
Какая позиция «правильнее»? Автор не рассматривает «правильность» как нечто абсолютное и говорит о том, что как самопожертвование, так и удовлетворение аналитика могут быть в разной степени «здоровыми»:
«Как нам определить, когда наши потребности удовлетворяются в интересах пациента или за его или ее счет? И когда здоровое самопожертвование превращается в мазохистское подчинение?
Шапиро и Габбард (1994) отмечают, что избыток либо нарциссического удовлетворения, либо бескорыстной преданности может иметь пагубные последствия для результатов лечения. Поэтому, добавляют они, пришло время выйти за рамки моралистических представлений о “хорошем” или “плохом”. Только оптимальный баланс того и другого может обеспечить адекватную основу для эффективной психотерапии.»
Тем не менее, Марода обращает внимание, что позиция аналитика, который отрекается от себя во имя интересов пациента, в целом больше одобряема, чем мысль о том, что аналитик может удовлетворять какие-то свои потребности в отношениях с пациентом:
«Когда возникают сомнения, клиницисты склонны ошибаться в сторону чрезмерной пассивности и подчинения. При работе с трудным пациентом может легко возникнуть порочный круг мазохистского подчинения, за которым следует негодование и уход или даже наказание, за которым следует чувство вины и дальнейшая жертва, основанная на стыде.»
Марода противостоит Левинасу, который возводит «радикальную ответственность за другого» в ранг этической позиции. Она пишет, что есть разница между эмоциональной капитуляцией перед опытом пациента (по сути это разделение его страдания) и моральным мазохизмом, к которому приводит идея бесконечной ответственности аналитика.
В целом Марода явно пытается ограничить идею о том, что жертвенность аналитика это «хорошо». Однако, она подвергает эту свою позицию рефлексии и говорит: «совсем недавно я задалась вопросом, не может ли моя позиция быть слишком своеобразной и что некоторые терапевты могут с радостью терпеть даже самого трудного, жестокого пациента.»
Какая позиция «правильнее»? Автор не рассматривает «правильность» как нечто абсолютное и говорит о том, что как самопожертвование, так и удовлетворение аналитика могут быть в разной степени «здоровыми»:
«Как нам определить, когда наши потребности удовлетворяются в интересах пациента или за его или ее счет? И когда здоровое самопожертвование превращается в мазохистское подчинение?
Шапиро и Габбард (1994) отмечают, что избыток либо нарциссического удовлетворения, либо бескорыстной преданности может иметь пагубные последствия для результатов лечения. Поэтому, добавляют они, пришло время выйти за рамки моралистических представлений о “хорошем” или “плохом”. Только оптимальный баланс того и другого может обеспечить адекватную основу для эффективной психотерапии.»
Тем не менее, Марода обращает внимание, что позиция аналитика, который отрекается от себя во имя интересов пациента, в целом больше одобряема, чем мысль о том, что аналитик может удовлетворять какие-то свои потребности в отношениях с пациентом:
«Когда возникают сомнения, клиницисты склонны ошибаться в сторону чрезмерной пассивности и подчинения. При работе с трудным пациентом может легко возникнуть порочный круг мазохистского подчинения, за которым следует негодование и уход или даже наказание, за которым следует чувство вины и дальнейшая жертва, основанная на стыде.»
Марода противостоит Левинасу, который возводит «радикальную ответственность за другого» в ранг этической позиции. Она пишет, что есть разница между эмоциональной капитуляцией перед опытом пациента (по сути это разделение его страдания) и моральным мазохизмом, к которому приводит идея бесконечной ответственности аналитика.
В целом Марода явно пытается ограничить идею о том, что жертвенность аналитика это «хорошо». Однако, она подвергает эту свою позицию рефлексии и говорит: «совсем недавно я задалась вопросом, не может ли моя позиция быть слишком своеобразной и что некоторые терапевты могут с радостью терпеть даже самого трудного, жестокого пациента.»
Удовлетворение и выгода аналитика
«Возможно, самая очевидная, но не высказанная потребность, которую мы испытываем как терапевты, — это потребность в близости.» Марода рассказывает, как в разговоре с группой коллег они все, смеясь согласились, что все они «наркоманы близости». Согласны ли вы с этим заявлением Мароды? Чувствуете ли, что это и про вас тоже?
«Фарбер и Хейфец (1981) предположили, что сочетание помощи клиентам и чувства близости к ним — то, что они назвали «интимным участием» — служит особенно сильной наградой»… потребность в эмоциональной близости, по-видимому, является одним из самых убедительных мотивов нашей работы.
Представление о каком-либо постоянном удовлетворении аналитика как неотъемлемой части успешного лечения, особенно представление о том, что пациент помогает аналитику измениться или обеспечивает эмоциональную или интеллектуальную поддержку аналитику, остается чуждым. Хотя я повсюду использую термин "удовлетворение", я имею в виду не просто немедленное удовольствие, облегчение или удовлетворение. Я имею в виду прежде всего более глубокое переживание общих глубоких эмоций, личностный рост, самореализацию и трансформацию аналитика как необходимое следствие аналитического процесса.»
«Бэкал и Томсон (1998) представляют два из немногих голосов, которые поддержали идею удовлетворения аналитика и потребности в эмоциональной поддержке в ходе терапии. Они указывают на то, что традиционно считалось, что мы не нуждаемся в отзывчивости наших пациентов, и из чувства стыда за то, что наши потребности были удовлетворены, мы отрицаем, что получаем от них что-то существенное.»
Я думаю, что стыд появляется везде, где речь заходит об удовлетворении потребностей, зависящих от другого человека. Но у терапевтов он ещё усиливается, потому что есть запрет на это. Тем не менее, Марода призывает признать факт, что:
«… наши пациенты постоянно удовлетворяют ряд наших психологических потребностей, которые позволяют нам продолжать их лечение. По большей части мы не осознаем, что это происходит... Переживание аналитиком невосприимчивости пациента, по сути, ничем не отличается от переживания пациентом невосприимчивости аналитика. Когда пациент испытывает это, мы называем это нарушением. Когда у аналитика есть такой опыт, мы называем это контрпереносом.»
Марода отмечает, что очень мало кто писал об удовлетворении аналитика. Из прошлых лет, это Сас, который написал (1956) единственную статью, где прямо говорится, о неизбежности взаимного и глубокого удовлетворения в аналитических отношениях:
«… хотя это «знание» об удовлетворении аналитика «существует», оно в лучшем случае скрыто и официально не признается.»
В более современной литературе, Марода отмечает статью Габбарда (2000) — «О благодарности и удовлетворении», где он говорит:
«В дополнение к нашим альтруистическим намерениям, большинство из нас ищут какую-то форму исцеления в своей работе... Мы предлагаем понимание, заботу и одобрение, но мы надеемся получить благодарность и признательность за наши усилия.»
Марода считает, что потребность в благодарности - это показатель того, что есть проблемы во взаимности в этой паре:
«Я думаю, что мы часто довольствуемся благодарностью, или жалуемся на то, что не получаем ее, только когда наши более глубокие потребности в подтверждении не удовлетворяются. Неявно это означает, что отношения выходят за рамки взаимности. Когда потребности обоих людей удовлетворяются, благодарность, хотя и присутствует, но не на первом плане.»
Она также высказывает гипотезу, что в отношениях, в которых удовлетворяются потребности в подтверждение друг друга, не возникает попыток какого-то дополнительного удовлетворения:
«… пациенты, которые активно ищут секса, ночных телефонных звонков, контактов в отпуске и других сомнительных удовольствий от аналитика, могут довольствоваться этими вещами, потому что они не могут получить то, что им действительно нужно. Меня всегда удивляло, почему некоторые терапевты получают непрерывные телефонные звонки и просьбы об особых услугах от своих нуждающихся пациентов, в то время как другие получают мало или вообще не получают. Хотя этот феномен может быть частично объяснен знанием пациентом того, что аналитик готов или не хочет делать, или что аналитик должен или не должен давать, я думаю, что это также может быть функцией того, что пациент на самом деле получает на сеансах.»
Вопрос, который всегда возникает при разговоре об удовлетворении аналитика: как понять, не использование ли это пациента? Марода пишет:
«Легко назвать несколько четко определенных случаев злоупотреблений со стороны терапевта, таких как неоднократное изложение пациентам своих личных проблем, заключение каких-либо деловых сделок или получение советов от пациентов, внеаналитический контакт с пациентами и интимный физический контакт с ними.
Мы можем попытаться «получить что-то» от пациента с помощью инициированных терапевтом телефонных звонков или встреч, или сосредоточения внимания на любой теме сеанса, которая может захватить внимание терапевта, но не быть действительно важной для пациента. Или мы можем не поддерживать попытки пациента сократить количество сеансов или установить дату прекращения, можем хронически опаздывать на сеансы, часто переносить сеансы или отвечать на телефонные звонки во время сеансов. Если такое поведение не связано с каким-то личным кризисом в жизни аналитика, я бы спросила, как и почему аналитик чувствует личную или профессиональную фрустрацию по отношению к этому конкретному пациенту в данный момент.»
За рамками этих достаточно однозначных случаев злоупотреблений, определять допустимые границы уже сложнее. Марода говорит, что, например, объятия могут быть терапевтичны иногда для пациента. Но тут важно, чтобы аналитик не делал этого по принуждению, чтобы ему это тоже доставляло удовольствие.
«Для того чтобы встреча была терапевтической, обе стороны должны чувствовать себя комфортно. И иногда нам приходится совершать ошибку, прежде чем мы узнаем, что работает, а что нет, с конкретным пациентом, или чтобы выяснить, что нам самим удобно делать или не делать. Наконец, мы должны смириться с возможностью того, что пациент может действительно нуждаться в чем-то, что мы просто не можем ему дать.»
Марода выделяет два принципа, которыми аналитик может руководствоваться при принятии правильных решений.
Первое, это то, что инициатива должна исходить от пациента:
«Было показано, что все, от самораскрытия до физического контакта и советов, имеет терапевтический эффект, прежде всего, когда это инициирует пациент, а не аналитик. Конечно, когда мы говорим о проективной идентификации или разыгрывании, установить, кто является инициатором, бывает очень трудно… знание того, что у нас есть бессознательные мотивы, которые мешают нам быть уверенными, не должно удерживать нас от стремления к самосознанию.»
И следующий принцип, это взаимность.
«Я считаю, что практически невозможно со временем делать или говорить вещи, которые вредны для пациента, но полезны для аналитика.
Терапевтические отношения не могут преодолеть ограничения всех человеческих отношений, которые обязательно включают периоды бесчувственности, пренебрежения, стремления к власти и даже некоторой степени эксплуатации. Суть не в том, чтобы создать недостижимый идеал, а скорее в том, чтобы указать, что определенное удовлетворение терапевта, как поверхностное, так и глубокое, обязательно происходит в тандеме с улучшением состояния пациента.
Многие терапевты все еще испытывают чувство вины и стыда из-за сильных чувств к пациенту, особенно сексуальных, или из-за того, что почувствовали себя лучше в результате общения с пациентом. Я считаю, что это должно измениться.»
«Фарбер и Хейфец (1981) предположили, что сочетание помощи клиентам и чувства близости к ним — то, что они назвали «интимным участием» — служит особенно сильной наградой»… потребность в эмоциональной близости, по-видимому, является одним из самых убедительных мотивов нашей работы.
Представление о каком-либо постоянном удовлетворении аналитика как неотъемлемой части успешного лечения, особенно представление о том, что пациент помогает аналитику измениться или обеспечивает эмоциональную или интеллектуальную поддержку аналитику, остается чуждым. Хотя я повсюду использую термин "удовлетворение", я имею в виду не просто немедленное удовольствие, облегчение или удовлетворение. Я имею в виду прежде всего более глубокое переживание общих глубоких эмоций, личностный рост, самореализацию и трансформацию аналитика как необходимое следствие аналитического процесса.»
«Бэкал и Томсон (1998) представляют два из немногих голосов, которые поддержали идею удовлетворения аналитика и потребности в эмоциональной поддержке в ходе терапии. Они указывают на то, что традиционно считалось, что мы не нуждаемся в отзывчивости наших пациентов, и из чувства стыда за то, что наши потребности были удовлетворены, мы отрицаем, что получаем от них что-то существенное.»
Я думаю, что стыд появляется везде, где речь заходит об удовлетворении потребностей, зависящих от другого человека. Но у терапевтов он ещё усиливается, потому что есть запрет на это. Тем не менее, Марода призывает признать факт, что:
«… наши пациенты постоянно удовлетворяют ряд наших психологических потребностей, которые позволяют нам продолжать их лечение. По большей части мы не осознаем, что это происходит... Переживание аналитиком невосприимчивости пациента, по сути, ничем не отличается от переживания пациентом невосприимчивости аналитика. Когда пациент испытывает это, мы называем это нарушением. Когда у аналитика есть такой опыт, мы называем это контрпереносом.»
Марода отмечает, что очень мало кто писал об удовлетворении аналитика. Из прошлых лет, это Сас, который написал (1956) единственную статью, где прямо говорится, о неизбежности взаимного и глубокого удовлетворения в аналитических отношениях:
«… хотя это «знание» об удовлетворении аналитика «существует», оно в лучшем случае скрыто и официально не признается.»
В более современной литературе, Марода отмечает статью Габбарда (2000) — «О благодарности и удовлетворении», где он говорит:
«В дополнение к нашим альтруистическим намерениям, большинство из нас ищут какую-то форму исцеления в своей работе... Мы предлагаем понимание, заботу и одобрение, но мы надеемся получить благодарность и признательность за наши усилия.»
Марода считает, что потребность в благодарности - это показатель того, что есть проблемы во взаимности в этой паре:
«Я думаю, что мы часто довольствуемся благодарностью, или жалуемся на то, что не получаем ее, только когда наши более глубокие потребности в подтверждении не удовлетворяются. Неявно это означает, что отношения выходят за рамки взаимности. Когда потребности обоих людей удовлетворяются, благодарность, хотя и присутствует, но не на первом плане.»
Она также высказывает гипотезу, что в отношениях, в которых удовлетворяются потребности в подтверждение друг друга, не возникает попыток какого-то дополнительного удовлетворения:
«… пациенты, которые активно ищут секса, ночных телефонных звонков, контактов в отпуске и других сомнительных удовольствий от аналитика, могут довольствоваться этими вещами, потому что они не могут получить то, что им действительно нужно. Меня всегда удивляло, почему некоторые терапевты получают непрерывные телефонные звонки и просьбы об особых услугах от своих нуждающихся пациентов, в то время как другие получают мало или вообще не получают. Хотя этот феномен может быть частично объяснен знанием пациентом того, что аналитик готов или не хочет делать, или что аналитик должен или не должен давать, я думаю, что это также может быть функцией того, что пациент на самом деле получает на сеансах.»
Вопрос, который всегда возникает при разговоре об удовлетворении аналитика: как понять, не использование ли это пациента? Марода пишет:
«Легко назвать несколько четко определенных случаев злоупотреблений со стороны терапевта, таких как неоднократное изложение пациентам своих личных проблем, заключение каких-либо деловых сделок или получение советов от пациентов, внеаналитический контакт с пациентами и интимный физический контакт с ними.
Мы можем попытаться «получить что-то» от пациента с помощью инициированных терапевтом телефонных звонков или встреч, или сосредоточения внимания на любой теме сеанса, которая может захватить внимание терапевта, но не быть действительно важной для пациента. Или мы можем не поддерживать попытки пациента сократить количество сеансов или установить дату прекращения, можем хронически опаздывать на сеансы, часто переносить сеансы или отвечать на телефонные звонки во время сеансов. Если такое поведение не связано с каким-то личным кризисом в жизни аналитика, я бы спросила, как и почему аналитик чувствует личную или профессиональную фрустрацию по отношению к этому конкретному пациенту в данный момент.»
За рамками этих достаточно однозначных случаев злоупотреблений, определять допустимые границы уже сложнее. Марода говорит, что, например, объятия могут быть терапевтичны иногда для пациента. Но тут важно, чтобы аналитик не делал этого по принуждению, чтобы ему это тоже доставляло удовольствие.
«Для того чтобы встреча была терапевтической, обе стороны должны чувствовать себя комфортно. И иногда нам приходится совершать ошибку, прежде чем мы узнаем, что работает, а что нет, с конкретным пациентом, или чтобы выяснить, что нам самим удобно делать или не делать. Наконец, мы должны смириться с возможностью того, что пациент может действительно нуждаться в чем-то, что мы просто не можем ему дать.»
Марода выделяет два принципа, которыми аналитик может руководствоваться при принятии правильных решений.
Первое, это то, что инициатива должна исходить от пациента:
«Было показано, что все, от самораскрытия до физического контакта и советов, имеет терапевтический эффект, прежде всего, когда это инициирует пациент, а не аналитик. Конечно, когда мы говорим о проективной идентификации или разыгрывании, установить, кто является инициатором, бывает очень трудно… знание того, что у нас есть бессознательные мотивы, которые мешают нам быть уверенными, не должно удерживать нас от стремления к самосознанию.»
И следующий принцип, это взаимность.
«Я считаю, что практически невозможно со временем делать или говорить вещи, которые вредны для пациента, но полезны для аналитика.
Терапевтические отношения не могут преодолеть ограничения всех человеческих отношений, которые обязательно включают периоды бесчувственности, пренебрежения, стремления к власти и даже некоторой степени эксплуатации. Суть не в том, чтобы создать недостижимый идеал, а скорее в том, чтобы указать, что определенное удовлетворение терапевта, как поверхностное, так и глубокое, обязательно происходит в тандеме с улучшением состояния пациента.
Многие терапевты все еще испытывают чувство вины и стыда из-за сильных чувств к пациенту, особенно сексуальных, или из-за того, что почувствовали себя лучше в результате общения с пациентом. Я считаю, что это должно измениться.»
Нарциссическая уязвимость аналитика
«Чтобы быть эффективным аналитиком или терапевтом, нужно быть уязвимым. Быть обиженным, разочарованным, обескураженным так же неизбежно, как разделять нашу общую радость и воодушевление.»
Наша нарциссическая уязвимость как профессионалов состоит в том, что мы хотим быть значимыми, особенными людьми для своих пациентов, испытываем удовлетворение от этого. Но мы также можем получать нарциссических травмы, встречаясь с их критикой и обвинениями, мы можем переживать стыд или обиду, или защищаться от этих чувств рационализацией. Карен Марода предлагает осознавать свои нарциссических потребности в терапии, не закрывать на них глаза, чтобы понимать как это влияет на терапию
Она считает, что нарциссическая уязвимость свойственна аналитикам не более, чем другим людям.
«Тем не менее, наши нарциссические потребности могут стать серьезным препятствием для эффективного лечения. В частности, наше отрицание нарциссических потребностей создает очевидный барьер для определения того, когда и как они препятствуют процессу терапии.
Возможно, аналитики могут показаться более нарциссичными в истинном патологическом смысле этого термина, потому что процесс лечения неизбежно обнажает нашу уязвимость и последующий стыд. Мы не хирурги, орудующие скальпелями. Наши инструменты - это наша наблюдательность, эмоциональная честность, эмпатическая настроенность и готовность противостоять как нашим пациентам, так и самим себе.
Мы, по-видимому, ищем одобрения и привязанности, даже идеализации, от наших пациентов. Тем не менее, мы также обладаем сильным желанием понимать и сопереживать другим — маловероятные черты для патологических нарциссов. Вместо того, чтобы принимать или отвергать обвинение в нарциссической патологии, я думаю, мы могли бы извлечь больше пользы из сбалансированного обсуждения того, как мы могли бы коллективно разделять определенный тип нарциссической уязвимости."
Марода пишет, что наш аналитический идеал мешает нам осознавать свою нарциссическую уязвимость.
Также Марода говорит о большом влиянии женщин на психоанализ, которое привело в целом к его гуманизации. Но тут же отмечает и опасности чрезмерного крена в эту сторону:
«… если мы признаем значительное положительное влияние женщин на наши способы теоретизации и практики, мы обязательно должны также учитывать недостатки, которые могут сопровождать эту точку зрения. Я думаю, мы не можем поставить себе в заслугу такую гуманизацию аналитического процесса, не приняв во внимание также некоторые недостатки акцента, который сейчас делают как мужчины, так и женщины, на стилях привязанности матери к младенцу и необходимости безоговорочного принятия.»
То есть, Карен говорит здесь, что влияние женщин на психоаналитическую практику в целом способствовало её гуманизации. Но всегда ли это плюс? Не заходим ли мы порой слишком далеко в нашей терпимости и безусловном принятии пациента? Она предполагает, что гуманизация в отношении к пациентам породила сверхответственность аналитиков за свои возможные ошибки и, в свою очередь, защиты от возможности признать свои ошибки. Я думаю, в наших сообществах этому ещё способствует идея, что есть некое «правильное» аналитическое поведение и отклоняться от него недопустимый грех.
Наша нарциссическая уязвимость как профессионалов состоит в том, что мы хотим быть значимыми, особенными людьми для своих пациентов, испытываем удовлетворение от этого. Но мы также можем получать нарциссических травмы, встречаясь с их критикой и обвинениями, мы можем переживать стыд или обиду, или защищаться от этих чувств рационализацией. Карен Марода предлагает осознавать свои нарциссических потребности в терапии, не закрывать на них глаза, чтобы понимать как это влияет на терапию
Она считает, что нарциссическая уязвимость свойственна аналитикам не более, чем другим людям.
«Тем не менее, наши нарциссические потребности могут стать серьезным препятствием для эффективного лечения. В частности, наше отрицание нарциссических потребностей создает очевидный барьер для определения того, когда и как они препятствуют процессу терапии.
Возможно, аналитики могут показаться более нарциссичными в истинном патологическом смысле этого термина, потому что процесс лечения неизбежно обнажает нашу уязвимость и последующий стыд. Мы не хирурги, орудующие скальпелями. Наши инструменты - это наша наблюдательность, эмоциональная честность, эмпатическая настроенность и готовность противостоять как нашим пациентам, так и самим себе.
Мы, по-видимому, ищем одобрения и привязанности, даже идеализации, от наших пациентов. Тем не менее, мы также обладаем сильным желанием понимать и сопереживать другим — маловероятные черты для патологических нарциссов. Вместо того, чтобы принимать или отвергать обвинение в нарциссической патологии, я думаю, мы могли бы извлечь больше пользы из сбалансированного обсуждения того, как мы могли бы коллективно разделять определенный тип нарциссической уязвимости."
Марода пишет, что наш аналитический идеал мешает нам осознавать свою нарциссическую уязвимость.
Также Марода говорит о большом влиянии женщин на психоанализ, которое привело в целом к его гуманизации. Но тут же отмечает и опасности чрезмерного крена в эту сторону:
«… если мы признаем значительное положительное влияние женщин на наши способы теоретизации и практики, мы обязательно должны также учитывать недостатки, которые могут сопровождать эту точку зрения. Я думаю, мы не можем поставить себе в заслугу такую гуманизацию аналитического процесса, не приняв во внимание также некоторые недостатки акцента, который сейчас делают как мужчины, так и женщины, на стилях привязанности матери к младенцу и необходимости безоговорочного принятия.»
То есть, Карен говорит здесь, что влияние женщин на психоаналитическую практику в целом способствовало её гуманизации. Но всегда ли это плюс? Не заходим ли мы порой слишком далеко в нашей терпимости и безусловном принятии пациента? Она предполагает, что гуманизация в отношении к пациентам породила сверхответственность аналитиков за свои возможные ошибки и, в свою очередь, защиты от возможности признать свои ошибки. Я думаю, в наших сообществах этому ещё способствует идея, что есть некое «правильное» аналитическое поведение и отклоняться от него недопустимый грех.
Конфликт и негативный контрперенос
Упоминание о конфликте в психоаналитической литературе неуклонно снижалось в последние десятилетия, когда на сцену вышел дефицит, как основной виновник психопатологии. Это сопровождалось сдвигом в «материнскую» модель терапии, против фрейдовского «отцовского» психоанализа. Все эти перемены были обусловлены неуклонным дрейфом психоанализа от примата влечений к примату отношений.
В 4-ой главе Карен Марода анализирует последствия такого поворота. Она говорит, что метафора пациента-младенца в психоанализе и соответствующее отождествление аналитика с эмпатичной матерью привели к тому, что эмпатии аналитика стали предъявляться завышенные требования (это особенно ярко проявилось в сэлф-психологии). Идея о том, что аналитик должен выполнять роль «достаточно хорошей матери» и компенсировать таким образом ранние дефициты развития пациента, приводила к подавлению агрессии терапевта и к «сверхпринятию» пациента. Марода считает, что это усиливалось ещё тем, что аналитики, в силу своей ранней истории, стремятся быть «хорошими» терапевтами, стыдятся своих негативных чувств к пациентам и, защищаясь от стыда, склонны не осознавать их.
Всё это приводит к негативным последствиям для терапии. Например к избыточному контейнированию неподобающего поведения пациента, когда он откровенно оскорбляет аналитика или постоянно звонит ему и пишет, в том числе ночью, требует дополнительных сессий и тд. В сообществах культивируется образ аналитика, который способен всё сконтейнировать. Поэтому аналитики «держатся до последнего».
Марода считает, что неосознаваемые чувства аналитиков создают почву для бессознательных разыгрываний. Мало того, это создаёт в терапии климат фальшивого принятия и доброжелательности. Пациенты зачастую это чувствуют и это мешает установлению искренней эмоциональной связи. То есть конфликт постепенно вытеснился из внутрипсихической сферы и не признается в межличностной. Аналитик должен выдержать и сконтейнировать пациента, не проявить свой гнев.
В 4-ой главе Карен Марода анализирует последствия такого поворота. Она говорит, что метафора пациента-младенца в психоанализе и соответствующее отождествление аналитика с эмпатичной матерью привели к тому, что эмпатии аналитика стали предъявляться завышенные требования (это особенно ярко проявилось в сэлф-психологии). Идея о том, что аналитик должен выполнять роль «достаточно хорошей матери» и компенсировать таким образом ранние дефициты развития пациента, приводила к подавлению агрессии терапевта и к «сверхпринятию» пациента. Марода считает, что это усиливалось ещё тем, что аналитики, в силу своей ранней истории, стремятся быть «хорошими» терапевтами, стыдятся своих негативных чувств к пациентам и, защищаясь от стыда, склонны не осознавать их.
Всё это приводит к негативным последствиям для терапии. Например к избыточному контейнированию неподобающего поведения пациента, когда он откровенно оскорбляет аналитика или постоянно звонит ему и пишет, в том числе ночью, требует дополнительных сессий и тд. В сообществах культивируется образ аналитика, который способен всё сконтейнировать. Поэтому аналитики «держатся до последнего».
Марода считает, что неосознаваемые чувства аналитиков создают почву для бессознательных разыгрываний. Мало того, это создаёт в терапии климат фальшивого принятия и доброжелательности. Пациенты зачастую это чувствуют и это мешает установлению искренней эмоциональной связи. То есть конфликт постепенно вытеснился из внутрипсихической сферы и не признается в межличностной. Аналитик должен выдержать и сконтейнировать пациента, не проявить свой гнев.
Деконструкция разыгрывания
В этой главе Марода говорит о разыгрывание и о самораскрытии, которое с ним всегда связано.
Мы привыкли говорить о разыгрывании, как о бессознательной коммуникации диссоциированных частей самости, которые не могут проявиться вербально, так как находятся в досимволическом телесно-аффективном состоянии.
Марода добавляет ещё один вариант разыгрывания, который может случиться, когда аналитик подавляет свои негативные чувства к пациенту. Не зная что с ними делать (аналитикам предписано только не проявлять их ни в коем случае), он эмоционально отстраняется от пациента. Оригинальный тезис Мароды состоит в том, что разыгрывание происходит, так как есть потребность снова связаться у обоих участников. То есть разыгрывание призвано восстановить разрушенную связь. Однако, Марода считает, что разрыва связи можно избежать, если аналитик будет внимателен к своим негативным чувствам, и попробует раскрыть их пациенту, не дожидаясь разыгрывания.
Мне эта мысль кажется очень крутой и с моим опытом тут многое совпадает.
«Практически все примеры проработанных разыгрываний в литературе содержат два элемента: первый — это обсуждение того, какие эмоции как у аналитика, так и у пациента были неосознанными во время разыгрывания; во-вторых, какой тип самораскрытия необходим для адекватной проработки участия аналитика. Мы признаем, что самораскрытие часто необходимо и работает, не имея какой-либо формальной теории его терапевтического действия по отношению к разыгрыванию.
В главе «Деконструкция разыгрывания» Марода показывает активную позицию аналитика, осознающего, что разыгрывание происходит и то, как она с этим работает. Этапы работы включают глубокий самоанализ и честное обсуждение ситуации (включая признание своей неправоты) с пациентом. Очень ясно видно, как непросто выйти из разыгрывания, даже когда аналитик уже осознает его. Красная нить, которая проходит через всю книгу, это то, что мы должны быть очень внимательны к своим реакциям. Важно признавать, что все наши чувства к пациенту легитимны и нормальны. Это уменьшает стыд и вину, а значит, предотвращает вытеснение этих чувств.
Мы привыкли говорить о разыгрывании, как о бессознательной коммуникации диссоциированных частей самости, которые не могут проявиться вербально, так как находятся в досимволическом телесно-аффективном состоянии.
Марода добавляет ещё один вариант разыгрывания, который может случиться, когда аналитик подавляет свои негативные чувства к пациенту. Не зная что с ними делать (аналитикам предписано только не проявлять их ни в коем случае), он эмоционально отстраняется от пациента. Оригинальный тезис Мароды состоит в том, что разыгрывание происходит, так как есть потребность снова связаться у обоих участников. То есть разыгрывание призвано восстановить разрушенную связь. Однако, Марода считает, что разрыва связи можно избежать, если аналитик будет внимателен к своим негативным чувствам, и попробует раскрыть их пациенту, не дожидаясь разыгрывания.
Мне эта мысль кажется очень крутой и с моим опытом тут многое совпадает.
«Практически все примеры проработанных разыгрываний в литературе содержат два элемента: первый — это обсуждение того, какие эмоции как у аналитика, так и у пациента были неосознанными во время разыгрывания; во-вторых, какой тип самораскрытия необходим для адекватной проработки участия аналитика. Мы признаем, что самораскрытие часто необходимо и работает, не имея какой-либо формальной теории его терапевтического действия по отношению к разыгрыванию.
В главе «Деконструкция разыгрывания» Марода показывает активную позицию аналитика, осознающего, что разыгрывание происходит и то, как она с этим работает. Этапы работы включают глубокий самоанализ и честное обсуждение ситуации (включая признание своей неправоты) с пациентом. Очень ясно видно, как непросто выйти из разыгрывания, даже когда аналитик уже осознает его. Красная нить, которая проходит через всю книгу, это то, что мы должны быть очень внимательны к своим реакциям. Важно признавать, что все наши чувства к пациенту легитимны и нормальны. Это уменьшает стыд и вину, а значит, предотвращает вытеснение этих чувств.
Мифы об эмпатии и зеркальных нейронах
В этой главе Марода критически рассматривает популярные представления о зеркальных нейронах и их связи с эмпатией. Анализируя литературу, она приходит к выводу, что нет достаточно доказательств, что активация зеркальных нейронов приводит к аналогичным переживаниям, у того, кто наблюдает за другим человеком. А то, что эта точка зрения стала так популярна в последние годы, это скорее следствие нашей потребности в красивом и простом пути к чувствам другого человека.
Добавлю от себя, что в сложной системе, каковой является человек, такое простое однокомпонентное соответствие попросту невозможно. Так же и сведение эмпатии к факту активации зеркальных нейронов представляется слишком линейной и биологизированной идеей.
Кроме того, Марода считает, что слишком сильная концентрация на эмпатии, как основе терапевтического процесса, приводит к тому, что в терапии возникают диссоциированные зоны (это моя интерпретация её слов), то, что мы не отслеживаем и вытесняем - наши неэмпатичные реакции на пациентов и всё, что с этим связано.
В общем, как всегда: там, где мы наблюдаем слишком сильную приверженность какой-то идее или методу, это на поверку оказывается одним из полюсов дихотомии. А заваливание в любой такой полюс приводит к диссоцциативным состояниям терапевтического процесса в целом. Попросту говоря, мы перестаем что-то замечать в нём. Диалектика, однако…
Более подробный обзор книги Карен Мароды можно найти в Telegram канале
Добавлю от себя, что в сложной системе, каковой является человек, такое простое однокомпонентное соответствие попросту невозможно. Так же и сведение эмпатии к факту активации зеркальных нейронов представляется слишком линейной и биологизированной идеей.
Кроме того, Марода считает, что слишком сильная концентрация на эмпатии, как основе терапевтического процесса, приводит к тому, что в терапии возникают диссоциированные зоны (это моя интерпретация её слов), то, что мы не отслеживаем и вытесняем - наши неэмпатичные реакции на пациентов и всё, что с этим связано.
В общем, как всегда: там, где мы наблюдаем слишком сильную приверженность какой-то идее или методу, это на поверку оказывается одним из полюсов дихотомии. А заваливание в любой такой полюс приводит к диссоцциативным состояниям терапевтического процесса в целом. Попросту говоря, мы перестаем что-то замечать в нём. Диалектика, однако…
Более подробный обзор книги Карен Мароды можно найти в Telegram канале
Список литературы:
- Karen J. Maroda "The analyst's vulnerability. Impact on Theory and Practice.", 2021