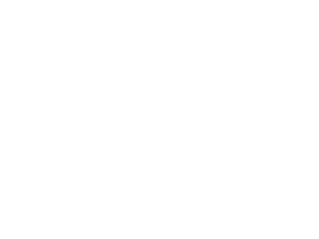
"Джессика Бенджамин: Интерсубъективная связь: разрывы и восстановления."
Автор: Юлия Царенко
2024
2024
Старая шутка: "Сколько аналитиков нужно, чтобы поменять лампочку?"
Ответ: "Один, но лампочка должна сама захотеть поменяться"
Ответ в реляционном ключе: "Один, но сначала должен измениться аналитик."
[из книги Бенджамин Д. «Делающий и претерпевающий: теория признания, интерсубъективность и Третий», 2018].
Джессика Бенджамин – известный американский реляционный и интерсубъективный психоаналитик. Она внесла большой вклад не только в психоанализ, но и в развитие феминизма, гендера, социологии, политики. На протяжении всей своей жизни она исследовала тему отношений, взаимодействия матери и младенца, интерсубъективной связи.
Из биографических данных автора известно, что она родилась в 1946 году в еврейской семье. С детства увлекалась политикой и была «маленьким активистом». Боролась за социальную справедливость и гражданские права, устраивая пикеты со своими школьными друзьями.
Социальная активность была всегда важной частью жизни Бенджамин. Она училась на бакалавра в университете Висконсина, где участвовала в антивоенной организации, обсуждая политику и положение женщин в обществе. Большое влияние на неё оказала книга Симоны де Бовуар «Второй пол». Именно эта книга объединила женщин в группу, в которой участницы, включая Джессику, поднимали вопросы угнетения, доминирования, патриархата. В женском кругу они делились личным опытом и навешанными предрассудками. Эта почва стала основой для участия Бенджамин в американском феминистском движении второй волны.
Степень магистра Джессика получила в Университете Франкфурта в Западной Германии, где изучала психологию, социологию и философию. В этот же период она боролась за легализацию абортов в Германии. В 1978 году Джессика Бенджамин получила докторскую степень по социологии в Нью-Йоркском университете.
Разворот в сторону психоанализа произошёл благодаря работам Дэниела Стерна, хотя до этого у неё было скептическое отношение к психологии: «Я не пошла в психологию, потому что работа, которую тогда выполняли, за исключением нескольких мест, была, в основном, поведенческой (бихевиоральной), слишком сильно подвержена влиянию количественной позитивистской традиции, чтобы представлять для меня большой интерес» [7].
Своё психоаналитическое образование она получила на программе постдокторской психологии Нью-Йоркского университета по психоанализу и психотерапии. Также она участвовала в постдокторских исследованиях младенчества с доктором Беатрис Биби в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна. Эти исследования помогли Бенджамин создать свою теорию взаимного признания.
Мой личный интерес к автору связан с практическими аспектами работы аналитика в кабинете, теми тупиками, которые часто возникают в отношениях с пациентами. В один момент на сессии можно чувствовать связь с пациентом, а в другой эта связь будто бы распадается, и аналитик оказываюсь по другую сторону баррикад. Бенджамин называет такие отношения комплементарными, когда есть делающий и претерпевающий, агрессор и жертва, доминирующий и подчиняющийся. Такая динамика отношений может возникать и в обычной жизни: с супругами, с детьми, с коллегами на работе. Поэтому актуальность этой темы для меня очевидна – как выстраивать ассиметричные и одновременно взаимные отношения с другим? Более того, автор предлагает способы выхода из таких отношений, обнаруживая пространство Третьего. Об этом и пойдёт речь в этой статье.
Чтобы лучше понять теоретические аспекты концепций Джессики Бенджамин, предлагаю начать с понятия интерсубъективности. Это ключевое понятие, в основе которого – отношения двух субъектов, двух отдельных личностей, где признаётся инаковость другого.
Интерсубъективная связь формируется в отношениях, и первые отношения возникают между матерью и младенцем. Бенджамин делает акцент на взаимном признании – не только младенец нуждается в отражении матери, но и мать нуждается в реакции от ребёнка. «Отзеркаливающая мать нуждается в отзеркаливающем ребёнке, поскольку отзеркаливание лица – это двунаправленный процесс, в котором, каждый из них следует за направлением аффективных изменений другого» [6]. Происходит аффективная сонастройка друг на друга. Но бывает так, что ребёнок проявляет себя менее отзывчиво, а мать реагирует на это чрезмерной стимуляцией или отстранением – это мать, которая испытывает отчаяние от того, что ребёнок не откликается на неё. Разрыв связи переживает не только младенец, но и мать.
Взаимное признание – это, своего рода, контейнер, который вмещает в себя парадокс диады: асимметрию и взаимность, идентичность потребностей и конфликт потребностей, созвучность и различия. Роль матери заключается как в признании воли и намерений ребенка, так и в установлении границ, в настаивании на собственной реальности как отдельного субъекта. Здесь и появляется пространство Третьего.
Бенджамин выделяет ритмического третьего – это довербальный уровень коммуникации, музыкальный, ритмический обмен жестами между младенцем и матерью, телесная сонастройка. Важно отметить, что созданный ритм не сводится к модели «действие - реакция», когда один пассивен, а другой активен. Это пространство Третьего имеет переходные качества, воспринимается как совместная деятельность, сотворчество.
Символический третий – это более развитый уровень, дифференцирующий, основанный на признании отдельно существующей субъективности другого. Например, когда мать разлучается с ребёнком, имея свои нужды, она осознаёт, что это причиняет ему боль, но также, что эта боль пройдёт, и она может ей сопереживать, а не защищаться от неё. То есть, эта способность матери удерживать напряжение между своими потребностями и потребностями ребёнка, идентификацией с ребёнком и наблюдающей функцией взрослого.
Моральный третий связан с ценностями, правилами, принципами взаимодействия. В психотерапевтических отношениях это может проявляться в признании аналитиком собственной диссоциации, в том, что он защищается от чего-то и таким образом может сам разрывать связь с пациентом. Это взятие ответственности за свой вклад в отношения.
Позиция Третьего – это одно из важнейших движений или позиций внутри психоаналитического поля. В психотерапии мы можем наблюдать, как устанавливается интерсубъективная связь между аналитиком и пациентом, и для этого иногда требуется длительное время. Парадоксальность ситуации состоит в том, что субъективность возможно обнаружить через разрыв связи. Такая динамика проявляется в отношениях матери и младенца, хотя со стороны кажется, что там царит полная гармония и идиллия. Цикл нарушения и восстановления связи даёт фундамент для развития субъектности.
Бенджамин в своей теории использует концепцию игры Дональда Винникотта, его идею о разрушении объекта. «Деструкция делает возможным переход от отношений (интрапсихических) в использовании объекта к отношениям с другим, который объективно воспринимается как существующий вне Я, как самостоятельная сущность»[3]. Другими словами, когда пациент внутри своей психики уничтожает терапевта, а терапевт выживает, не отступает, не нападает в ответ, то пациент узнаёт, что терапевт существует в реальности, а не внутри его фантазии. Внешняя реальность предстаёт как отчётливый контраст с внутренним фантазийным миром и именно тогда и происходит открытие другого («Я тебя уничтожил – Я тебя люблю»), опыт связанности с субъектом. Вместо всемогущества возникает бессилие перед встречей с реальностью. Разрушение – это общая черта интерсубъективной связанности, важная способность восстановить или починить отношения.
Когда взаимное признание не восстанавливается, когда реальность не выдерживает разрушения, то начинает преобладать комплементарность и отношение к внутреннему объекту – возникают субъект-объектные отношения, двумерное плоское пространство. Первым, кто обнаружил такое явление как комплементарность, был Хайнрих Ракер [4]. Он выделял два вида контрпереноса: конкортадный (согласующийся) контрперенос и комплементарный (дополнительный). В первом случае терапевт идентифицируется с пациентом, это выражается в сочувствии и эмпатии к чувствам пациента, а во втором – с внутренними объектами пациента, у терапевта возникают эмоции и переживания, несоответствующие эмоциональному опыту пациента, это те чувства объекта по отношению к пациенту (ребёнку).
Интересно, что в основе комплементарности лежит глубинное бессознательное отзеркаливание в форме полной симметрии – взаимного отражения одного и того же, а также совпадение аффективного переживания. Парадокс в том, что, испытывая одно и то же, оба участника отношений воспринимают происходящее как непреодолимую преграду, когда есть позиции делающего и претерпевающего (doer/done to), когда возникает неразрешимая оппозиция, в основе которой лежит расщепление. В этом месте возникает тупик, интерсубъективность разваливается. Каждый чувствует, что не может добиться признания другого и находится во власти другого. Ощущается, что есть всего две возможности: либо подчинение, либо сопротивление (доминирование): «либо я сумасшедший, либо ты». Возникающий конфликт невозможно наблюдать, удерживать, рефлексировать о нём, быть посредником или играть с ним. Каждый чувствует другого в роли насильника-соблазнителя, каждый воспринимает другого как «делающего со мной». Именно отсутствие позитивного ассиметричного опыта делает так, что человек становится неспособным к симметрии, тогда и возникает комплементарность.
В своей книге «Делающий и претерпевающий: теория признания, интерсубъективность и Третий» Бенджамин приводит виньетку про Роба, которая как раз и иллюстрирует комплементарность в отношениях пациента и аналитика. Роб – сорокалетний мужчина, был любимцем своей матери, которая возлагала на него свои ожидания и нереализованные амбиции. Роб женился на женщине с религиозным воспитанием, которая стремилась быть идеальной и самоотверженной матерью, но отказывала ему в сексуальной жизни. На работе у Роба возникла страсть и привязанность к другой женщине, к которой он собирался уходить от жены. Но его жена выдвинула ему условия – поклясться на Библии, что в течение шести недель он не будет встречаться с любовницей и всё обдумает, а иначе она не примет его обратно. Боясь потерять жену и отношения с любовницей, Роб принял условия жены, но чувствовал себя связанным обещанием и испытывал принуждение, отчего у него возникли мысли о самоубийстве. Аналитик Роба, кандидат в супервизоры, чувствовала срочность и желание позаботиться о пациенте, но она собиралась уехать в запланированный недельный отпуск, отчего испытывала страх, что её отсутствие может повлечь смерть пациента. Аналитик почувствовала себя в западне, поскольку она также, как и Роб, испытывала обеспокоенность и принуждение – «либо я выбираю пациента и спасаю его, либо я выбираю себя, но убиваю пациента». Происходит разыгрывание, в котором один подчиняет себе другого, и ситуация кажется безвыходной, поскольку отсутствует Третий.
Пространство Третьего – это то, что помогает выходить из комплементарных отношений. А чтобы обнаружить эту позицию, Бенджамин предлагает капитуляцию аналитика: «мы не держимся за Третье, мы сдаёмся ему» [6]. Третье – это не то, чему мы подчиняемся, это интерсубъективное ментальное пространство, которое способствует обнаружению другой точки зрения, реальности другого. Ключевым моментом является то, что капитуляция происходит не перед кем-то, тогда это будет подчинением, а это, своего рода, отпускание своего Я, отказ от намерения контролировать или принуждать другого, это признание аналитиком собственного вклада в отношения с пациентом.
Бенджамин предлагает аналитику первому делать этот шаг, восстанавливая сначала собственную агентность и субъектность, а затем уже, имея пространство третичности, привносить этот опыт в отношения с пациентом. Аллан Шор [6] пишет об этом, как о восстановление саморегуляции у аналитика, и, соответственно, способности аналитика выйти из диссоциации.
Вернёмся к случаю с Робом. На супервизии с Бенджамин аналитик смогла обнаружить свои чувства и понять, что происходит разыгрывание на нескольких уровнях, что она сама оказалась в роли той самой матери, для которой отделение и обладание собственной субъективностью равносильно убийству, в то время как подчинение требованию «ребёнка» (пациента) означает убить себя. В этой комплементарности отсутствует признание отдельности другого, его желаний, нет пространства, в котором возможно пережить потерю. Когда аналитик смогла обнаружить свою вину за желание быть отдельной, тогда она почувствовала большую свободу, а не зависимость. Это помогло обсудить с клиентом его страх быть брошенным и, одновременно с этим, желание подчинить себе другого (аналитика).
Бенджамин пишет также о такого рода тупиках, когда эмпатия аналитика может стать частью комплементарного разыгрывания. Когда эмпатичный аналитик занимает позицию знающего и лечащего, а пациент подавляет свои разногласия, при этом ощущая власть аналитика над ним. Это может происходить, когда пациент чувствует, что ничего не может дать взамен аналитику, чтобы тот изменился. А аналитик ощущает, что если он поделится своими переживаниями, привнесёт свою отдельность и инаковость, то это может «убить» пациента. Поэтому, возвращаясь к эпиграфу данной статьи, важно отметить, что не только «лампочка» (пациент) должна захотеть поменяться, но и сам аналитик. Именно этот опыт, по мнению Славина и Кригмана [6], помогает измениться пациенту.
Список литературы:
- Бенджамин Д. Необходимость признания ошибки как средство восстановления фасилитирующих и контейнирующих свойств интерсубъективных отношений («общего третьего»). Точка зрения реляционного психоанализа, 2009.
- Бенджамин Д. Побег из зеркального зала, 2004.
- Бенджамин Д. Признание и разрушение: основные положения интерсубъективности. Как субъекты, так и объекты любви: эссе о признании и сексуальных (половых) различиях, 1995.
- Ракер Х. Значение и использование контрпереноса (1953). Эра контрпереноса. Антология психоаналитических исследований (1949-1999гг.), 2021.
- Йетман А. Двухличностная концепция свободы: Значение идеи интерсубъективности Д. Бенджамин. Журнал классической социологии, 2015.
- Benjamin J. Beyond Doer and Done: Recognition Theory, Intersubjectivity and the Third, 2018.
- MacKay J. Profile. Jessica Benjamin, 2012. website: feministvoices.com.