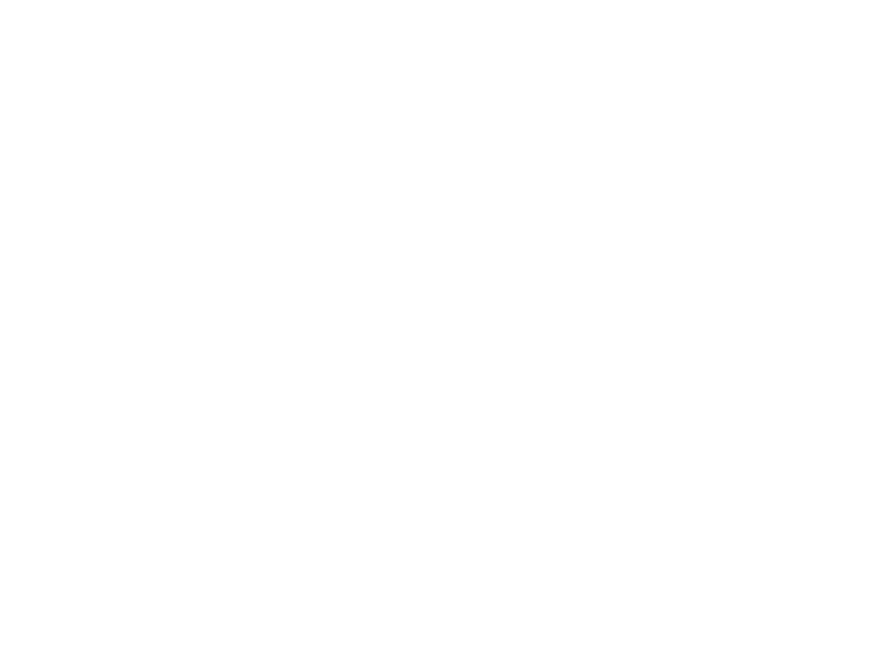
"Стивен Митчелл: путь к реляционной перспективе"
Автор: Денис Каргальцев
2024
2024
«Люди печально известны своей неспособностью быть удовлетворенными, они постоянно создают ситуации, которые делают их несчастными. Только фундаментальная потребность любой ценой быть в контакте с другими людьми объясняет наличие постоянных неприятностей в жизни столь многих людей».
В 70-е годы XX века наступило время постмодерна. Сравнительные подходы к различным теориям и анализ дискурса, то есть, зависимости любого знания от контекста его происхождения, захватили умы исследователей. Постмодернистской критике подверглись любые концепции, претендующие на объективную истинность их положений. Однако к началу 80-х годов такая важная часть гуманитарного знания, как психоанализ и психотерапия, все еще оставалась не исследована с постмодернистской критической позиции. Эту задачу предстояло выполнить Стивену Митчеллу, американскому психоаналитику и исследователю. Результатом этой работы стало не только расширение понимания психоаналитической теории в ее историческом развитии, но и появление нового психоаналитического направления – реляционного психоанализа.
Без Стивена Митчелла реляционный психоанализ мог бы появиться значительно позже 1980-х годов и мог бы даже называться иначе. Именно Митчелл придумал термин «реляционный»[1], который объединил специалистов из разных психоаналитических направлений под одной крышей. Он оказался в нужное время и в нужном месте, смог увидеть накопившиеся противоречия в психоаналитических теориях и разрешить их.
Стивен Митчелл
«Объектные отношения в психоаналитической теории»[1], 1983 г.
В 70-е годы XX века наступило время постмодерна. Сравнительные подходы к различным теориям и анализ дискурса, то есть, зависимости любого знания от контекста его происхождения, захватили умы исследователей. Постмодернистской критике подверглись любые концепции, претендующие на объективную истинность их положений. Однако к началу 80-х годов такая важная часть гуманитарного знания, как психоанализ и психотерапия, все еще оставалась не исследована с постмодернистской критической позиции. Эту задачу предстояло выполнить Стивену Митчеллу, американскому психоаналитику и исследователю. Результатом этой работы стало не только расширение понимания психоаналитической теории в ее историческом развитии, но и появление нового психоаналитического направления – реляционного психоанализа.
Без Стивена Митчелла реляционный психоанализ мог бы появиться значительно позже 1980-х годов и мог бы даже называться иначе. Именно Митчелл придумал термин «реляционный»[1], который объединил специалистов из разных психоаналитических направлений под одной крышей. Он оказался в нужное время и в нужном месте, смог увидеть накопившиеся противоречия в психоаналитических теориях и разрешить их.
Биография Стивена Митчелла
Стивен Митчелл родился на Манхэттене 23 июля 1946 в семье нью-йоркских интеллектуалов, а детство провел в пригороде Нью-Йорка - Нью-Джерси. Его родственники придерживались социалистических взглядов, что в то время было очень прогрессивно. Советский Союз недавно победил во Второй мировой войне, и авторитет социализма в мире был высок. Известно, что дед Стивена был социалистом, а дядя – коммунистом. Весьма вероятно, что этот семейный акцент на социальной природе человека в дальнейшем оказал заметное влияние на мировоззрение Митчелла.
Еще в школе Стивен увлекся психологией и большую часть лета между младшими и старшими классами средней школы провел, поглощая пятитомное собрание сочинений Фрейда. Увлеченный психоанализом, в 1964 году он поступил в Йельский университет на факультет психологии. Однако он быстро разочаровался в обучении, т.к. большинство курсов оказалось посвящено экспериментальной психологии, что показалось ему скучным. Спустя пару лет Митчелл погрузился в изучение философии и выбрал для себя специализацию по истории гуманитарных наук, получив специальность по направлению «История, искусство и литература». Посещая междисциплинарные семинары по культуре, искусству и философии, он многое узнал о структурных и сравнительных подходах к различным идеям. Как он писал потом про этот период: «Ницше убедил меня, что философия сделала неверный поворот, сосредоточившись на том, какими люди должны быть, а не на том, каковы они есть на самом деле».
Закончив Йельский университет, Стивен Митчелл поступил в аспирантуру Нью-Йорского университета и через несколько лет получил докторскую степень по клинической психологии. Параллельно с аспирантурой он прошел психоаналитическую подготовку в Институте психиатрии, психоанализа и психологии им. Уильяма Алансона Уайта с 1972 по 1977 год, обучаясь интерперсональному подходу в одно время с набирающими популярность психоаналитиками Эдгаром Левенсоном и Дарлин Эренберг. Тогда же Митчелл познакомился и со своей будущей женой Маргарет Блэк. Впоследствии она вспоминала, что они сидели на какой-то лекции, и вдруг Стивен спросил ее о том, что она хотела бы сделать в своей жизни. Она растерялась и не смогла ответить на этот вопрос и вместо этого сама спросила его об этом. Стивен ответил, что хочет изменить привычное понимание психоанализа.
После аспирантуры Митчелл прошел стажировку в Колумбийском психиатрическом институте. Как он писал позднее: «Развитие моих концептуальных и клинических взглядов в те годы отражало диалектическую напряженность между индивидуальным и социальным, между интрапсихическим и межличностным». В это же время в американских книжных магазинах появлялось все больше английской литературы по теории объектных отношений. Изучая эти книги, Стивен обнаружил в этой теории много схожего с концепциями интерперсонального психоанализа. Он узнал, что Рональд Фэйрбейрн[2] предложил модель превращения межличностных отношений во внутрипсихические. Это означало расширение интерперсональной теории в область интрапсихического.
Еще в колледже Митчелл понял, что единственный способ по-настоящему чему-то научиться – это начать изучать эту тему самостоятельно, а лучший способ глубоко изучить что-то – начать преподавать этот предмет. В 1970-х годах в течение восьми лет он преподавал психоаналитические идеи и междисциплинарные подходы студентам старших курсов в самых разных психоаналитических институтах. Именно в процессе преподавания — разбирая на части, реконструируя и сравнивая различные теоретические модели — он обнаружил, что сформировал свою собственную психоаналитическую точку зрения, объединяющую внутренние и внешние отношения в единую модель. А в процессе представления и осмысления собственной клинической работы он выработал особый терапевтический стиль.
Не менее 15 лет Митчелл участвовал в различных группах чтения, чтобы изучить как прошлую, так и современную психоаналитическую литературу. Эти встречи стали эффективным способом переработки клинического опыта и идей. Тогда же он увлекся написанием статей, открыв в себе писательский талант.
Еще в школе Стивен увлекся психологией и большую часть лета между младшими и старшими классами средней школы провел, поглощая пятитомное собрание сочинений Фрейда. Увлеченный психоанализом, в 1964 году он поступил в Йельский университет на факультет психологии. Однако он быстро разочаровался в обучении, т.к. большинство курсов оказалось посвящено экспериментальной психологии, что показалось ему скучным. Спустя пару лет Митчелл погрузился в изучение философии и выбрал для себя специализацию по истории гуманитарных наук, получив специальность по направлению «История, искусство и литература». Посещая междисциплинарные семинары по культуре, искусству и философии, он многое узнал о структурных и сравнительных подходах к различным идеям. Как он писал потом про этот период: «Ницше убедил меня, что философия сделала неверный поворот, сосредоточившись на том, какими люди должны быть, а не на том, каковы они есть на самом деле».
Закончив Йельский университет, Стивен Митчелл поступил в аспирантуру Нью-Йорского университета и через несколько лет получил докторскую степень по клинической психологии. Параллельно с аспирантурой он прошел психоаналитическую подготовку в Институте психиатрии, психоанализа и психологии им. Уильяма Алансона Уайта с 1972 по 1977 год, обучаясь интерперсональному подходу в одно время с набирающими популярность психоаналитиками Эдгаром Левенсоном и Дарлин Эренберг. Тогда же Митчелл познакомился и со своей будущей женой Маргарет Блэк. Впоследствии она вспоминала, что они сидели на какой-то лекции, и вдруг Стивен спросил ее о том, что она хотела бы сделать в своей жизни. Она растерялась и не смогла ответить на этот вопрос и вместо этого сама спросила его об этом. Стивен ответил, что хочет изменить привычное понимание психоанализа.
После аспирантуры Митчелл прошел стажировку в Колумбийском психиатрическом институте. Как он писал позднее: «Развитие моих концептуальных и клинических взглядов в те годы отражало диалектическую напряженность между индивидуальным и социальным, между интрапсихическим и межличностным». В это же время в американских книжных магазинах появлялось все больше английской литературы по теории объектных отношений. Изучая эти книги, Стивен обнаружил в этой теории много схожего с концепциями интерперсонального психоанализа. Он узнал, что Рональд Фэйрбейрн[2] предложил модель превращения межличностных отношений во внутрипсихические. Это означало расширение интерперсональной теории в область интрапсихического.
Еще в колледже Митчелл понял, что единственный способ по-настоящему чему-то научиться – это начать изучать эту тему самостоятельно, а лучший способ глубоко изучить что-то – начать преподавать этот предмет. В 1970-х годах в течение восьми лет он преподавал психоаналитические идеи и междисциплинарные подходы студентам старших курсов в самых разных психоаналитических институтах. Именно в процессе преподавания — разбирая на части, реконструируя и сравнивая различные теоретические модели — он обнаружил, что сформировал свою собственную психоаналитическую точку зрения, объединяющую внутренние и внешние отношения в единую модель. А в процессе представления и осмысления собственной клинической работы он выработал особый терапевтический стиль.
Не менее 15 лет Митчелл участвовал в различных группах чтения, чтобы изучить как прошлую, так и современную психоаналитическую литературу. Эти встречи стали эффективным способом переработки клинического опыта и идей. Тогда же он увлекся написанием статей, открыв в себе писательский талант.
Объектные отношения в психоаналитической теории
Однажды за обедом со своим коллегой Джеем Гринбергом[3] они обнаружили, что оба планируют написать одну и ту же книгу. В итоге они решили объединить усилия и написали книгу «Объектные отношения в психоаналитической теории», которая увидела свет в 1983 году.
В этой книге термин «объектные отношения» стал включать как внутрипсихические объекты, так и внешние отношения с другими людьми. Была предложена структурная модель отношений как альтернатива структурной теории влечений. Целью этой работы было показать, что за несколько предшествующих десятилетий в психоаналитическом мышлении произошла смена парадигмы — от понимания психики, построенной на основе влечений и защитных механизмов, к пониманию психики, построенной на основе конфигураций отношений. Митчелл и Гринберг попытались описать различные способы приспособления к новой парадигме – от консервативных (фрейдистская Эго-психология) до альтернативных и радикальных способов (теория межличностных отношений Салливана, теория объектных отношений Фэйрбейрна).
Совместное сочинение этой книги было непростым делом. Стивен Митчелл вспоминал об этом так: «Мы с Джеем часто сходились в наших подходах к проблемам, но были и некоторые важные различия. Борьба с этими различиями и разработка общей концептуальной основы привели к тому, что книга получилась гораздо более сбалансированной и содержательной, чем могла бы быть, если бы кто-то из нас писал ее в одиночку. Этот опыт сотрудничества многому научил меня. А изучение разделов книги, за которые я отвечал, укрепило мое ощущение того, что существует фундаментальная совместимость между интерперсональным психоанализом, теориями объектных отношений британской школы (особенно Фэйрбейрна) и многими аспектами современной теории Мелани Кляйн[4]».
Надо сказать, что эта книга появилась очень вовремя. В 80-х годах в Нью-Йоркском университете был пик противостояния между факультетами фрейдистского психоанализа и межличностно-гуманистического направления. Эти два факультета были вовлечены в борьбу за власть, что не позволяло им полноценно развиваться.
Льюис Арон[5] рассказывал про это время, что когда он проходил обучение, они с коллегами часто шутили: если пациент фрейдиста говорил о близости, то его слова интерпретировались в сексуальном контексте, а если пациент говорил о сексе на сеансе с интерперсональным аналитиком, то терапевт, наоборот, сводил все к разговору о близости.
Сравнительный психоанализ Стивена Митчелла и Джея Гринберга предложил взглянуть на историю психоаналитических идей с новой стороны. По их мнению, теоретические позиции психоаналитиков неизбежно основываются на социальном, политическом и нравственном контексте своего времени. Модель влечений и модель отношений имеют в своей основе два кардинально противоположных взгляда на природу человека, поэтому их невозможно совместить. Теория влечений берет начало от философской традиции, которая рассматривает человека как отдельный животный организм, а его цели и желания изначально завязаны на его личные индивидуальные потребности. Реляционная теория исходит из философской идеи о том, что человек – существо социальное, следовательно, его желания удовлетворяются только в социальном окружении. Несмотря на попытки выстроить отношения между этими двумя взглядами путем интеграции и создания гибридных теорий, ни одна из них не привела к примирению двух изначально несовместимых подходов. Именно Стивен Митчелл первый заметил принципиальную несовместимость этих моделей.
В этой книге термин «объектные отношения» стал включать как внутрипсихические объекты, так и внешние отношения с другими людьми. Была предложена структурная модель отношений как альтернатива структурной теории влечений. Целью этой работы было показать, что за несколько предшествующих десятилетий в психоаналитическом мышлении произошла смена парадигмы — от понимания психики, построенной на основе влечений и защитных механизмов, к пониманию психики, построенной на основе конфигураций отношений. Митчелл и Гринберг попытались описать различные способы приспособления к новой парадигме – от консервативных (фрейдистская Эго-психология) до альтернативных и радикальных способов (теория межличностных отношений Салливана, теория объектных отношений Фэйрбейрна).
Совместное сочинение этой книги было непростым делом. Стивен Митчелл вспоминал об этом так: «Мы с Джеем часто сходились в наших подходах к проблемам, но были и некоторые важные различия. Борьба с этими различиями и разработка общей концептуальной основы привели к тому, что книга получилась гораздо более сбалансированной и содержательной, чем могла бы быть, если бы кто-то из нас писал ее в одиночку. Этот опыт сотрудничества многому научил меня. А изучение разделов книги, за которые я отвечал, укрепило мое ощущение того, что существует фундаментальная совместимость между интерперсональным психоанализом, теориями объектных отношений британской школы (особенно Фэйрбейрна) и многими аспектами современной теории Мелани Кляйн[4]».
Надо сказать, что эта книга появилась очень вовремя. В 80-х годах в Нью-Йоркском университете был пик противостояния между факультетами фрейдистского психоанализа и межличностно-гуманистического направления. Эти два факультета были вовлечены в борьбу за власть, что не позволяло им полноценно развиваться.
Льюис Арон[5] рассказывал про это время, что когда он проходил обучение, они с коллегами часто шутили: если пациент фрейдиста говорил о близости, то его слова интерпретировались в сексуальном контексте, а если пациент говорил о сексе на сеансе с интерперсональным аналитиком, то терапевт, наоборот, сводил все к разговору о близости.
Сравнительный психоанализ Стивена Митчелла и Джея Гринберга предложил взглянуть на историю психоаналитических идей с новой стороны. По их мнению, теоретические позиции психоаналитиков неизбежно основываются на социальном, политическом и нравственном контексте своего времени. Модель влечений и модель отношений имеют в своей основе два кардинально противоположных взгляда на природу человека, поэтому их невозможно совместить. Теория влечений берет начало от философской традиции, которая рассматривает человека как отдельный животный организм, а его цели и желания изначально завязаны на его личные индивидуальные потребности. Реляционная теория исходит из философской идеи о том, что человек – существо социальное, следовательно, его желания удовлетворяются только в социальном окружении. Несмотря на попытки выстроить отношения между этими двумя взглядами путем интеграции и создания гибридных теорий, ни одна из них не привела к примирению двух изначально несовместимых подходов. Именно Стивен Митчелл первый заметил принципиальную несовместимость этих моделей.
Новое направление современного психоанализа
Во многом благодаря книге Митчелла и Гринберга про объектные отношения в Нью-Йоркском университете в 1989 году родилось третье независимое психоаналитическое направление, возникшее как переходное пространство между взглядами фрейдистов и интерперсональных аналитиков. Группа преподавателей разработала аналитическую позицию, которая подчеркивала важность не только внешних межличностных отношений, но и внутрипсихических (воображаемых, фантазийных). Эти преподаватели, среди которых были Филип Бромберг, Берни Фридланд, Менни Гент, Джим Фоссейдж и Стивен Митчелл, при выборе названия нового направления остановились на слове «реляционный», заимствовав его из книги Гринберга и Митчелла. Тогда же в 1989 году во время ланча с Льюисом Ароном у Стивена Митчелла возникла идея о создании журнала для общения специалистов разных направлений. В итоге был создан журнал «Психоаналитические диалоги: реляционная перспектива» под редакцией Стивена Митчелла, который еще больше укрепил зарождающуюся идентичность реляционных аналитиков.
Новое реляционное направление вызвало взрывной интерес и привело к созданию международного сообщества реляционных психоаналитиков и психотерапевтов (IARPP), объединяющее специалистов из разных стран, а также к развитию этого направления внутри отдельных стран в рамках различных ассоциаций[6].
Относительно расхождения с интерперсональным психоанализом Стивен Митчелл писал так: «Когда мы с Джеем Гринбергом начали писать о реляционной теории, я рассматривал реляционные идеи как продолжение интерперсонального психоанализа, а современные реляционные концепции - как продолжение более ранней интерперсональной традиции, дополненной теорией объектных отношений. Но для меня стало самым большим сюрпризом за всю мою профессиональную карьеру то, что, как я потом узнал, многие интерперсональные аналитики, особенно старшего поколения, воспринимали это совсем иначе. Для них объектные отношения из-за своей интрапсихической направленности несовместимы с интерперсональным психоанализом и являются лишь одной из многих теорий, выходящих за рамки традиционного фрейдистского мышления. Таким образом, реляционный психоанализ стал рассматриваться многими аналитиками как самостоятельная школа психоаналитической мысли».
Важно отметить, что работа Стивена Митчелла повлияла на признание трудов Гарри Салливана[7] и самого интерперсонального психоанализа, который до этого считался маргинальным направлением и не признавался психоаналитическим сообществом.
Мало кто знает, что Стивен Митчелл был удостоен почетного членства в Американской психоаналитической ассоциации, от которого он отказался на том основании, что не мог принять членство в ассоциации, которая не смогла бы принять его друзей, студентов и коллег.
Новое реляционное направление вызвало взрывной интерес и привело к созданию международного сообщества реляционных психоаналитиков и психотерапевтов (IARPP), объединяющее специалистов из разных стран, а также к развитию этого направления внутри отдельных стран в рамках различных ассоциаций[6].
Относительно расхождения с интерперсональным психоанализом Стивен Митчелл писал так: «Когда мы с Джеем Гринбергом начали писать о реляционной теории, я рассматривал реляционные идеи как продолжение интерперсонального психоанализа, а современные реляционные концепции - как продолжение более ранней интерперсональной традиции, дополненной теорией объектных отношений. Но для меня стало самым большим сюрпризом за всю мою профессиональную карьеру то, что, как я потом узнал, многие интерперсональные аналитики, особенно старшего поколения, воспринимали это совсем иначе. Для них объектные отношения из-за своей интрапсихической направленности несовместимы с интерперсональным психоанализом и являются лишь одной из многих теорий, выходящих за рамки традиционного фрейдистского мышления. Таким образом, реляционный психоанализ стал рассматриваться многими аналитиками как самостоятельная школа психоаналитической мысли».
Важно отметить, что работа Стивена Митчелла повлияла на признание трудов Гарри Салливана[7] и самого интерперсонального психоанализа, который до этого считался маргинальным направлением и не признавался психоаналитическим сообществом.
Мало кто знает, что Стивен Митчелл был удостоен почетного членства в Американской психоаналитической ассоциации, от которого он отказался на том основании, что не мог принять членство в ассоциации, которая не смогла бы принять его друзей, студентов и коллег.
Диалектический подход в психоанализе
Своей методологией исследования психоаналитических теорий Митчелл оказал большое влияние на коллег. Вкратце ее можно описать следующим образом: сначала он излагает своим читателям два противоположных подхода к проблеме, а затем показывает, как, поднявшись на другой уровень абстракции, можно найти третью альтернативную точку зрения, которая бы устранила противоречия между первыми двумя подходами.
Этот диалектический подход ярко проявился в исследовании Митчеллом психологии двух персон с ее жесткой поляризацией интрапсихического и межличностного. Он попытался выйти за рамки этой бинарности, считая подходы, расположенные на обоих полюсах («один человек» и «два человека»), излишне узкими и ограничивающими. Митчелл считал, что человеческая психика является как интрапсихической, так и межличностной, т.е. одновременно феноменом как для одного человека, так и для двух.
Также Митчелл писал: «Наш разум – это далеко не статичные структуры психики, которые мы носим с собой для проявления в различных контекстах. То, что мы несем, – это скорее ресурсы для генерирования повторяющихся переживаний, которые активируются в определенных контекстах, в межличностных взаимодействиях с другими людьми. Внутрипсихические структуры по-прежнему важны, но они понимаются по-другому – менее статичные и более контекстуальные, зависящие от внешних обстоятельств. Сами наши мыслительные процессы состоят из языка и усвоенного опыта взаимодействия с другими людьми. Следовательно, мы в значительной степени неосознанно вовлечены в межличностные отношения, и, наоборот, межличностные конфигурации в значительной степени неосознанно встроены в нашу индивидуальную психику».
В своей книге «Концепции отношений в психоанализе» [2], изданной в 1988 году, Митчелл исследует два противоположных подхода к нарциссизму: «нарциссизм как защитный механизм личности» и «нарциссизм как основа творчества и личностного роста». Он демонстрирует, как эти противоположные теоретические представления привели к противоречивым техническим рекомендациям для аналитиков при работе с нарциссическим расстройством личности в работах Кернберга и Кохута[8]. Проникая в самую суть этих непримиримых теорий, Митчелл обнаруживает их удивительное структурное сходство, а именно то, что оба этих подхода предполагают модель психики, в которой нарциссизм является феноменом индивидуальной психики, а не как способ связи со значимыми людьми. Подход Митчелла же позволяет избежать ловушек обоих теорий, рассматривая нарциссизм как усвоенный паттерн отношений, служащий важным средством поддержания связи с другими людьми. Помещая нарциссизм в контекст отношений, его защитные и творческие аспекты перестают конфликтовать друг с другом.
В следующей книге Митчелла "Надежда и страх в психоанализе»[3] 1993 года аналогичным диалектическим методом рассматривается феномен агрессии, где также существуют две полярных концепции: агрессия рассматривается либо как фундаментальный и неустранимый человеческий инстинкт, порождающий ненависть, садизм и месть, либо как реактивный, защитный и лишенный первичного динамического значения механизм психики. Митчелл же рассмотрел агрессию как физиологическую реакцию в контексте отношений. Сохраняя центральную роль агрессии, основанную на телесных проявлениях и ее физиологической силе, одновременно он рассматривал агрессию как реакцию на угрозу, переживаемую в субъективном мире человека. Таким образом, агрессия активизируется контекстом отношений, но никогда не сводится только к внешним причинам.
Таким же способом Митчелл исследует тему единства и множественности самости. Существуют два противоречивых представления о самости: как единой и непрерывной или же как множественной и изменяющейся в зависимости от контекста. Если самость зависит от контекста, то как отличить, что является по-настоящему моим от того, что находится под влиянием окружения и формируется им? Стивен Митчелл предложил прекрасную и запоминающуюся метафору для разрешения этого противоречия: «Думайте о самости как о фильме, состоящем из отдельных картинок, которые при последовательном быстром просмотре создают нечто непрерывное и цельное. Конечно, как в случае с фильмом, так и с самостью, ощущение «движения» и непрерывности является лишь иллюзией. И тем не менее эта «иллюзия» создает опыт, который сам по себе обладает мощным синергетическим потенциалом, создавая более крупную «движущуюся» картину, сильно отличающуюся (и намного превосходящую) простую сумму отдельных изображений. Каждый кадр является дискретным, прерывистым изображением и одновременно частью более крупного, непрерывного процесса, который живет своей собственной жизнью».
В книге «Влияние и автономия в психоанализе»[4], вышедшей в свет в 1997 году, Стивен Митчелл отмечает, что «богатство опыта порождается тонкой диалектикой между внутренним и внешним, разрушением и восстановлением, самим собой и другими». Психоаналитики поддерживают стремление пациента найти самого себя в процессе примирения по отношению к другим, как реальным людям, так и к их внутренним представлениям.
Этот диалектический подход ярко проявился в исследовании Митчеллом психологии двух персон с ее жесткой поляризацией интрапсихического и межличностного. Он попытался выйти за рамки этой бинарности, считая подходы, расположенные на обоих полюсах («один человек» и «два человека»), излишне узкими и ограничивающими. Митчелл считал, что человеческая психика является как интрапсихической, так и межличностной, т.е. одновременно феноменом как для одного человека, так и для двух.
Также Митчелл писал: «Наш разум – это далеко не статичные структуры психики, которые мы носим с собой для проявления в различных контекстах. То, что мы несем, – это скорее ресурсы для генерирования повторяющихся переживаний, которые активируются в определенных контекстах, в межличностных взаимодействиях с другими людьми. Внутрипсихические структуры по-прежнему важны, но они понимаются по-другому – менее статичные и более контекстуальные, зависящие от внешних обстоятельств. Сами наши мыслительные процессы состоят из языка и усвоенного опыта взаимодействия с другими людьми. Следовательно, мы в значительной степени неосознанно вовлечены в межличностные отношения, и, наоборот, межличностные конфигурации в значительной степени неосознанно встроены в нашу индивидуальную психику».
В своей книге «Концепции отношений в психоанализе» [2], изданной в 1988 году, Митчелл исследует два противоположных подхода к нарциссизму: «нарциссизм как защитный механизм личности» и «нарциссизм как основа творчества и личностного роста». Он демонстрирует, как эти противоположные теоретические представления привели к противоречивым техническим рекомендациям для аналитиков при работе с нарциссическим расстройством личности в работах Кернберга и Кохута[8]. Проникая в самую суть этих непримиримых теорий, Митчелл обнаруживает их удивительное структурное сходство, а именно то, что оба этих подхода предполагают модель психики, в которой нарциссизм является феноменом индивидуальной психики, а не как способ связи со значимыми людьми. Подход Митчелла же позволяет избежать ловушек обоих теорий, рассматривая нарциссизм как усвоенный паттерн отношений, служащий важным средством поддержания связи с другими людьми. Помещая нарциссизм в контекст отношений, его защитные и творческие аспекты перестают конфликтовать друг с другом.
В следующей книге Митчелла "Надежда и страх в психоанализе»[3] 1993 года аналогичным диалектическим методом рассматривается феномен агрессии, где также существуют две полярных концепции: агрессия рассматривается либо как фундаментальный и неустранимый человеческий инстинкт, порождающий ненависть, садизм и месть, либо как реактивный, защитный и лишенный первичного динамического значения механизм психики. Митчелл же рассмотрел агрессию как физиологическую реакцию в контексте отношений. Сохраняя центральную роль агрессии, основанную на телесных проявлениях и ее физиологической силе, одновременно он рассматривал агрессию как реакцию на угрозу, переживаемую в субъективном мире человека. Таким образом, агрессия активизируется контекстом отношений, но никогда не сводится только к внешним причинам.
Таким же способом Митчелл исследует тему единства и множественности самости. Существуют два противоречивых представления о самости: как единой и непрерывной или же как множественной и изменяющейся в зависимости от контекста. Если самость зависит от контекста, то как отличить, что является по-настоящему моим от того, что находится под влиянием окружения и формируется им? Стивен Митчелл предложил прекрасную и запоминающуюся метафору для разрешения этого противоречия: «Думайте о самости как о фильме, состоящем из отдельных картинок, которые при последовательном быстром просмотре создают нечто непрерывное и цельное. Конечно, как в случае с фильмом, так и с самостью, ощущение «движения» и непрерывности является лишь иллюзией. И тем не менее эта «иллюзия» создает опыт, который сам по себе обладает мощным синергетическим потенциалом, создавая более крупную «движущуюся» картину, сильно отличающуюся (и намного превосходящую) простую сумму отдельных изображений. Каждый кадр является дискретным, прерывистым изображением и одновременно частью более крупного, непрерывного процесса, который живет своей собственной жизнью».
В книге «Влияние и автономия в психоанализе»[4], вышедшей в свет в 1997 году, Стивен Митчелл отмечает, что «богатство опыта порождается тонкой диалектикой между внутренним и внешним, разрушением и восстановлением, самим собой и другими». Психоаналитики поддерживают стремление пациента найти самого себя в процессе примирения по отношению к другим, как реальным людям, так и к их внутренним представлениям.
Наследие Стивена Митчелла
Обобщая произошедшие изменения в психоаналитической практике к концу XX века Митчелл писал так: «За последние пять-десять лет постепенно пришло осознание того, что невозможно отфильтровать влияние аналитика на психотерапевтический процесс. Постоянное исследование и интерпретация переноса, систематическое самораскрытие вряд ли могут существенно снизить влияние аналитика на пациента. Для предыдущих поколений клинических психоаналитиков техника ведения терапии в первую очередь относилась к поведению терапевта. Что должен делать аналитик? От чего аналитику следует воздерживаться? У нас это вряд ли сработает. Мы пришли к пониманию того, что значение того, что аналитик делает или не делает, зависит от контекста и конструируется совместно с пациентом. Аналитик не может определиться со значением «аналитической рамки» в одностороннем порядке. Для некоторых пациентов молчание – это форма сдержанности, для других – это форма пытки. Для некоторых пациентов интерпретация означает глубокое признание и понимание, другие могут воспринимать это как насильственное разоблачение. Для некоторых пациентов самораскрытие аналитика может стать уникальным и ценным примером подлинной честности, для других это может быть формой харизматичного обольщения и нарциссической эксплуатацией. Для некоторых пациентов вопросы аналитика воспринимаются как желание понять их и присоединиться к ним, для других же вопросы –это неожиданное вторжение в их личное пространство. Психоаналитикам больше нет необходимости решать в единоличном порядке, что происходящие в терапевтических отношениях события являются такими, какими они их видят и, если пациенты воспринимают их иначе, это вызвано искажением реальности. Межличностные ситуации неоднозначны и могут быть истолкованы по-разному, в зависимости от нашего прошлого и нашего текущего состояния».
Стивена Митчелла не стало 21 декабря 2000 года в возрасте 54 лет. Столь ранний уход такого неординарного и талантливого человека является невосполнимой утратой для реляционного движения. Стивен Митчелл был замечательным рассказчиком, обладал великолепным чувством юмора и мог объяснять сложные вещи своим студентам с помощью притч и анекдотов. Отзывчивость и дружелюбие располагало к нему. Льюис Арон вспоминал: «Многие из нас, когда были со Стивом, чувствовали, что мы интересны и важны, что у нас важные идеи, которые стоило развивать, и статьи, которые стоило публиковать, потому что Стив относился к нам серьезно»[5].
Стивен Митчелл оказал огромное влияние на современный психоанализ. Его теоретический вклад признают большинство его коллег и учеников, одновременно отмечая глубину и обаяние его личности, уникальный диалектический стиль мышления, его критическую и уважительную позицию по отношению к любым психоаналитическим теориям, его тонкий юмор, ясность и искренность в выражении своих мыслей. Когда я познакомился с текстами Стивена, я тоже почувствовал все вышесказанное о нем его коллегами через его книги. К сожалению, несмотря на значение работ Стивена Митчелла для современного психоанализа, до сих отсутствуют официальные переводы и издания его книг на русском языке. Надеюсь, это досадное недоразумение будет исправлено в ближайшие годы, и русскоязычные читатели смогут познакомиться с творческим наследием Стивена Митчелла.
[1]англ. relational: от «relation» - отношения
[2] Рональд Фейрбейрн (1889-1964) - британский психоаналитик, один из основоположников теории объектных отношений.
[3] Джей Гринберг (1942 – 2021) – американский психоаналитик, один из основоположников реляционного психоанализа
[4] Мелани Кляйн (1882-1960) – британский психоаналитик, основоположница теории объектных отношений
[5] Льюис Арон (1952-2019) – американский психоаналитик, основатель международной ассоциации реляционного психоанализа и психотерапии (IARPP)
[6] В русскоязычной среде реляционную перспективу развивает и популяризирует Ассоциация специалистов в области реляционного психоанализа и психотерапии (АСОРПП).
[7] Гарри Стек Салливан (1892-1949) – американский психолог и психиатр, основатель интерперсонального психоанализа
[8]ОттоКернберг (1928 – наст.вр.) – американскийпсихоаналитик, рассматриваетконцепциюнарциссизмавработе «Borderlineconditionsandpathologicalnarcissism» Kernberg, O. (1975). ХайнцКохут (1913 – 1981) – американскийпсихоаналитик, рассматриваетсвоюконцепциюнарциссизмавработе «Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage» Kohut H. (1972)
Стивена Митчелла не стало 21 декабря 2000 года в возрасте 54 лет. Столь ранний уход такого неординарного и талантливого человека является невосполнимой утратой для реляционного движения. Стивен Митчелл был замечательным рассказчиком, обладал великолепным чувством юмора и мог объяснять сложные вещи своим студентам с помощью притч и анекдотов. Отзывчивость и дружелюбие располагало к нему. Льюис Арон вспоминал: «Многие из нас, когда были со Стивом, чувствовали, что мы интересны и важны, что у нас важные идеи, которые стоило развивать, и статьи, которые стоило публиковать, потому что Стив относился к нам серьезно»[5].
Стивен Митчелл оказал огромное влияние на современный психоанализ. Его теоретический вклад признают большинство его коллег и учеников, одновременно отмечая глубину и обаяние его личности, уникальный диалектический стиль мышления, его критическую и уважительную позицию по отношению к любым психоаналитическим теориям, его тонкий юмор, ясность и искренность в выражении своих мыслей. Когда я познакомился с текстами Стивена, я тоже почувствовал все вышесказанное о нем его коллегами через его книги. К сожалению, несмотря на значение работ Стивена Митчелла для современного психоанализа, до сих отсутствуют официальные переводы и издания его книг на русском языке. Надеюсь, это досадное недоразумение будет исправлено в ближайшие годы, и русскоязычные читатели смогут познакомиться с творческим наследием Стивена Митчелла.
[1]англ. relational: от «relation» - отношения
[2] Рональд Фейрбейрн (1889-1964) - британский психоаналитик, один из основоположников теории объектных отношений.
[3] Джей Гринберг (1942 – 2021) – американский психоаналитик, один из основоположников реляционного психоанализа
[4] Мелани Кляйн (1882-1960) – британский психоаналитик, основоположница теории объектных отношений
[5] Льюис Арон (1952-2019) – американский психоаналитик, основатель международной ассоциации реляционного психоанализа и психотерапии (IARPP)
[6] В русскоязычной среде реляционную перспективу развивает и популяризирует Ассоциация специалистов в области реляционного психоанализа и психотерапии (АСОРПП).
[7] Гарри Стек Салливан (1892-1949) – американский психолог и психиатр, основатель интерперсонального психоанализа
[8]ОттоКернберг (1928 – наст.вр.) – американскийпсихоаналитик, рассматриваетконцепциюнарциссизмавработе «Borderlineconditionsandpathologicalnarcissism» Kernberg, O. (1975). ХайнцКохут (1913 – 1981) – американскийпсихоаналитик, рассматриваетсвоюконцепциюнарциссизмавработе «Thoughts on Narcissism and Narcissistic Rage» Kohut H. (1972)
Список литературы:
- Jay Greenberg, Stephen A. Mitchell «Object Relations in Psychoanalytic Theory», 1983
- StephenA. Mitchell «Relational concepts in psychoanalysis», 1988
- StephenA. Mitchell«Hope and Dread in Psychoanalysis», 1993
- StephenA. Mitchell«Influence and Autonomy in Psychoanalysis», 1997
- Lewis Aron «Clinical Outbursts and Theoretical Breakthroughs: AUnifying Theme in the Work of Stephen A. Mitchell», 2008